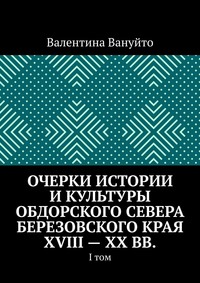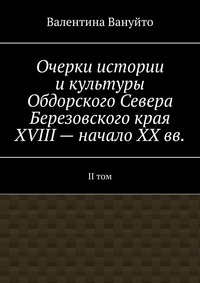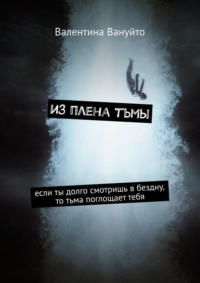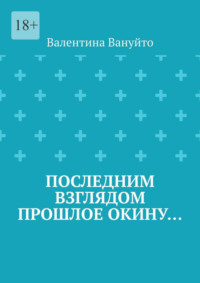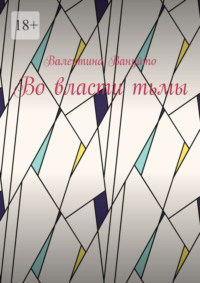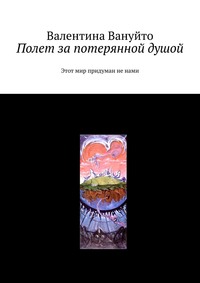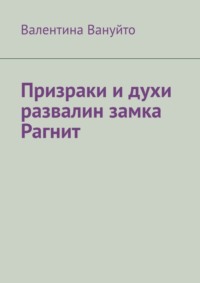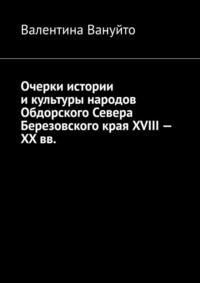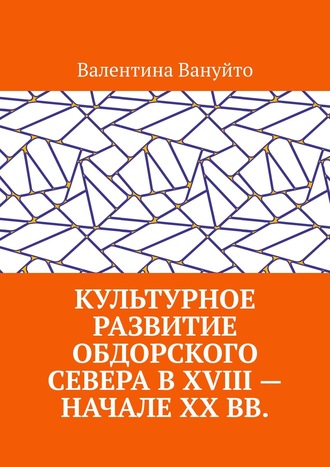
Полная версия
Культурное развитие Обдорского Севера в XVIII – начале XX вв.
Особенно многочисленен и разнообразен фонд Тобольской духовной консистории (ф. 156, ф. 700), включающий в себя метрические книги, клировые ведомости; ведомости учета исповедовавшихся (т. е. всю документацию церкви информационного характера); указы; переписку церковных клиров с благочинными (т. е. взаимоотношения всей церковной иерархии); дела о строительстве церквей, включающие в себя прошения крестьян о строительстве, их обязательства по содержанию клира, все процедуры, связанные со строительством, проблемы, возникающие при этом, и механизм их решения. Эти документы воссоздают картину религиозной жизни всего края, позволяют выявить наиболее острые вопросы государственно-религиозных отношений дореволюционного периода.
Клировые ведомости позволяют получить информацию о территории прихода, населенных пунктах, входивших в его состав в определенное время, о численности мужского и женского населения, а также определить сословный состав населения, численность раскольников, количество дворов и др. Они включают в себя сведения о зданиях церквей, имуществе, доходах, наличии походных церквей; информацию об учителях, численности учащихся; послужные списки причта с указанием фамилии, сословного положения, образования; характеристики церковнослужителей, состоящие из перечисления всех мест службы, сроков переводов и занимаемых должностей, наград, наказаний и т. д.
Исповедные росписи представляют собой специальные книги-ведомости, в которых фиксировалось все наличное православное население волостей, относившееся к приходу данной церкви, делались отметки о выполнении каждым прихожанином церковных обрядов и приводились посемейные списки.
Метрические книги содержат сведения о естественном движении населения, количестве браков, сезонности заключения браков, брачном возрасте, соотношении возрастов супругов. Материалы метрик позволяют проследить основные тенденции демографического развития на протяжении длительного периода времени как в целом по уездам, так и по отдельным приходам. Метрические книги обдорских православных церквей дают возможность выявить «график» пребывания священников в стойбищах. Чаще всего священники совершали обряды над «инородцами» в январе-феврале и в июле-августе. В первую очередь в поле зрения священников попадали стойбища коренного населения, расположенные неподалеку от факторий, селений, где были часовни, церкви. В 80-х гг. XIX в. среди принявших христианство в метрических книгах упоминаются в основном северные ханты и ненцы, кочующие в районах Куноватской и Ляпинской волостей Березовского уезда, а также в низовьях рек Пура и Надыма. Из ненцев Каменной стороны принимали крещение единицы.
составляют нарративные источники: записки путешественников, историко-этнографические описания, путевые журналы миссионеров П. Попова, Е. Пономарева, А. Тверетина, Н. Герасимова. Эти материалы дают возможность воссоздать реальную картину религиозной жизни общества и деятельности священников на севере Западной Сибири, хотя необходимо учитывать их официально-клерикальную направленность. В тоже время их путевые журналы наполнены зарисовками этнографического характера, наблюдениями за бытом и нравами населения Березовского края. Рапорты П. Попова, А. Тверитина, Н. Герасимова отражают их трудную повседневную жизнь, отношение к ним коренного населения, восприятие нового мировоззрения, образа жизни, святых икон и молитв. Третью группу 105 106 107
источников входят материалы периодической печати, которые являются дополнением для характеристики религиозных традиций ненцев и политики правительства и церкви. Для работы над темой использовались статьи из «Тобольских губернских ведомостей», «Тобольских епархиальных ведомостей», «Сибирского листка», «Православного вестника». В четвертую группу
Газетные площади состояли из официальной части и неофициальной. В официальной публиковались Указы Синода, Императора, известия и распоряжения епархиальных властей, данные о назначениях и перемещениях священнослужителей по епархии. В неофициальной – статьи, путевые заметки архиереев и священников.
Тематика их разнообразна: история сел и деревень, народы Крайнего Севера, их обычаи и обряды, исторические традиции, фольклор, жизнь сельских школ. Периодически помещалась и информация из записок, дневников, мемуаров и публикаций путешественников, исследователей и других авторов XIX – начала XX вв. Также освещались подробности хозяйственной жизни Обдорского края, среди которых наибольший интерес представляли данные об эпизоотиях, вызывавших падеж оленей, сведения о развитии рыбопромышленности и условиях работы рыболовецких артелей.
Самым интересным и впервые вводящимся в оборот комплексом источников являются отчеты, заметки, статьи священников, исследователей, корреспондентов, опубликованные в губернских и епархиальных ведомостях, «Православном благовестнике». Эта группа источников по характеру наиболее субъективна, она служит дополнением к документам других групп, позволяя более зримо представить действия миссионеров и степень религиозности населения.
Сообщения, донесения, прошения и рапорты являются самым эмоциональным источником. Тематика их определялась либо деловыми соображениями (например, описание обменной торговли между ненцами, хантами и коми-зырянами или отношений между коренными народами и русскими торговцами), либо «экзотикой» жизни северных народов (описание свадебного обряда и др.). Свидетельства очевидцев, путешественников, торговцев и т. п., как правило, не предназначались для публикации или чтения посторонними и поэтому непредвзято отражали непосредственные наблюдения и впечатления их авторов.
Ценность этих материалов целиком определяется наблюдательностью их составителей и, соответственно, степенью достоверности и точности фиксации описываемой действительности, что выявляется путем сопоставления с другими подобными материалам. Степень объективности описываемых явлений зависела также от социальной принадлежности, уровня образования и интеллектуальности авторов, и для нашей работы она не так важна.
входят записки путешественников, историко-этнографические описания Н. А. Абрамова, Е. В. Кузнецова, К. Д. Губарева, В. Н. Шаврова. Характер приводимых в них сведений разнообразен. В них содержится этнографическая информация о ненцах, их религиозных традициях, фольклоре. В пятую группу
Для реконструкции религиозных традиций коренного народа были использованы ранние работы путешественников, мореплавателей, исследователей XVII – XVIII вв., которые посещали стойбища оленеводов во время своих экспедиций. Учитывая субъективный характер этих источников, автор выделяет лишь те моменты, которые согласуются между собой и дают сходную и логичную картину происходящего. В них зафиксированы различные стороны быта и культуры местного населения. Несмотря на существенные недостатки (фрагментарность, использование непроверенных сведений, незнание языка) эти работы как одни из первых письменных источников по языческим представлениям ненцев не могут быть оставлены без внимания.
Первые краткие сведения о религиозной обрядности и верованиях ненцев содержатся в сочинениях русских и иностранных путешественников. О религиозном мировоззрении северных народов, в том числе и ненцев, сообщает Дж. Флетчер, который посетил Россию в ходе торговых переговоров в 1588 – 1589 гг. Некоторые сведения о религиозных взглядах ненцев приводит Г. Де-Фер, автор «Морского дневника». В сочинении П.М. де Ламартинера также имеются описания духовной культуры ненцев. Чрезвычайно ценны краткие записи Э. И. Идеса и А. Бранда о религиозном культе ненцев, где упоминается шаман. Несколько страниц в книге немецкого ученого, посла А. Олеария «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» посвящены описанию религиозных традициям северных народов. 108 109 110 111 112 113
Одно из наиболее ярких сведений о религиозных традициях ненцев находим в книге голландца К. де Бруина – художника, этнографа и писателя. Она написана в форме дневника, где К. де Бруин рассказывает о верхнем божестве, духах и религиозных взглядах ненцев. Достаточно подробно описал он и действия шамана. В научном труде Н. Витсена есть сведения о ненецких святилищах на о. Вайгач и Новой Земле. Описание жизни и быта, а также религиозных традиций ненцев он получил от русскоязычного населения. 114 115
Несмотря на свою несомненную научную ценность, этот круг источников не отражает всей полноты бытовавших религиозных представлений. Работы большинства дореволюционных авторов несут на себе явный отпечаток православного мировоззрения и убеждения, что только их собственная вера является единственно истинной. Поэтому они упрощенно трактовали религии других народов как языческие, как идолопоклонство и т. п.
Глава II
Территориально-хозяйственное заселение и освоение Обдорского края коренным и русско-зырянским населением
Заселение и освоение Обдорского края
К концу XVIII в. вся территория Севера Западной Сибири со всем ее населением вошла в состав Российского государства и была включена в общественно-политические процессы, протекавшие в России. На протяжении XVIII – начала XX вв. этнические контакты между различными группами ненцев постоянно укреплялись. По мере освоения русскими и коми-зырянами Обдорского Севера их контакты с местным населением также принимали все более широкий характер. Торговые отношения связывали русско-зырянское население и ненцев. Ярмарочная торговля укрепляла экономические и бытовые связи между народами.
Численность и расселение ненцев на период XVIII – начала XX вв. представляли следующую картину. В 1801 г. чиновниками Тобольской казенной палаты было отмечено 3341 ясашных. Ревизскими переписями за 1816 гг. ненцев Обдорской волости было учтено 4393 человек. И. Суханов в своем очерке указал за 1816 г. 7911 ненцев. В донесении частного комиссара в 1820 г. ненцев, заплативших ясак, было зарегистрировано 3107 человек. В 1827—1830 гг. в ведомости Тобольской казенной палаты было зафиксировано 3661 человек, внесших ясак в доход кабинета его Императорского Величества.Вторая ясачная комиссия в 1829 г. учла 3494 обдорских ненца, но сюда не вошло несколько родов. В ревизских сказках мы находим сведения за 1851 г., когда было зарегистрировано 3705 ненцев, а в 1858 г. их насчитывалось уже 5078. 116 117 118 119 120 121 122 123
По переписи ревизских сказок численность ненцев составляла: в 1851 г. обдорской волости – 2003 муж. и 1705 жен.; из них:
Каменной стороны:
Род Харючей:
1 ватага – 84 муж., 71 жен.
2 ватага – 244 муж., 244 жен.
3 ватага – 158 муж., 161 жен.
4 ватага – 38 муж., 55 жен.
5 ватага – 90 муж., 75 жен.
6 ватага – 176 муж., 127 жен.
7 ватага – 23 муж., 9 жен.
Род Язынги (Езынги):
1 ватага – 68 муж., 48 жен.
Род Вануты (Вануйто):
1 ватага – 162 муж., 149 жен.
2 ватага – 19 муж., 13 жен.
3 ватага – 10 муж., 6 жен.
Род Ану:
1 ватага – 60 муж., 54 жен.
2 ватага – 39 муж., 30 жен.
Род Яптики:
1 ватага – 17 муж., 15 жен.
2 ватага – 62 муж., 53 жен.
Род Муртюков:
1 ватага – 61 муж., 55 жен.
2 ватага – 19 муж., 13 жен.
Низовая сторона:
Род Харучи (Харючи):
1 ватага – 43 муж., 32 жен.
2 ватага – 133 муж., 95 жен.
3 ватага – 108 муж., 80 жен.
4 ватага – 38 муж., 23 жен.
5 ватага – 50 муж., 34 жен.
6 ватага – 40 муж., 29 жен.
Род Яр – 104 муж., 79 жен.
Род Адер:
1 ватага – 56 муж., 61 жен.
2 ватага – 23 муж., 20 жен.
Род Певу Харучи (Харючи) – 47 муж., 33 жен.
Род Содомы – 38 муж., 29 жен. 124
В 1858 г. крещеных ненцев в Ляпинской волости было 74 мужского пола, 46 женского; ненцев сынского городка: крещеных – 2; некрещеных – 16 муж. 9 жен.; ненцев обдорской волости – всего 2685 мужского и 2393 женского; из них по ватагам: 125 126
Каменной стороны:
1 ватага – 117 мужского пола и 116 жен.
2 ватага – 315 муж., 332 жен.
3 ватага – 157 муж., 187 жен.
4 ватага – 52 муж., 46 жен.
5 ватага – 112 муж., 98 жен.
6 ватага – 223 муж., 206 жен.
7 ватага – 41 муж., 25 жен.
8 ватага – 97 муж., 62 жен.
9 ватага – 104 муж., 76 жен.
10 ватага – 68 муж., 83 жен.
11 ватага – 40 муж., 33 жен.
12 ватага – 38 муж., 31 жен.
13 ватага – 69 муж., 52 жен
14 ватага – 42 муж., 28 жен.
15 ватага – 39 муж., 22 жен.
16 ватага – 20 муж., 16 жен.
17 ватага – 73 муж., 64 жен.
18 ватага – 59 муж., 34 жен.
19 ватага – 39 муж., 36 жен.
Низовой стороны:
1 ватага – 100 муж., 97 жен.
2 ватага – 148 муж., 112 жен.
3 ватага – 143 муж., 123 жен.
4 ватага – 18 муж., 14 жен.
5 ватага – 57 муж., 58 жен.
6 ватага – 43 муж., 29 жен.
7 ватага – 156 муж., 125 жен.
8 ватага – 67 муж., 69 жен.
9 ватага – 65 муж., 64 жен.
10 ватага – 44 муж., 32 жен.
11 ватага – 24 муж., 17 жен.
12 ватага – 113 муж., 76 жен. 127
К началу XVIII в. сибирские тундровые ненцы, основная часть которых была кочевыми оленеводами, образовывали две территориальные группы: одна кочевала по левую сторону Оби от верховьев р. Собь до Карского моря – Каменные ненцы; вторая обитала по правую сторону Оби, вдоль побережья Ледовитого океана до бассейна Енисея – Низовые. Деление тундровых сибирских ненцев на «каменных» и «низовых» стало складываться в XVII в. и окончательно оформилось в XVIII в. Особые группы составляли воикарские ненцы, которые кочевали в пределах Куноватской и Ляпинской волостей, где преобладающим населением были ханты и манси; и казымские (кунные), обитавшие в бассейне верхнего и среднего Пура, а также в верхнем и среднем течении Надыма. Воикарские ненцы, в свою очередь, делились на сынских и ляпинских. 128 129 130
Расселение хантов было очень широким – от низовий Оби на Севере до Барабинских степей на Юге и от Енисея на Востоке до Зауралья, включая реки Северной Сосьвы и Ляпин, а также часть р. Пелым и р. Конда на 3ападе. Основная тенденция миграций хантов в XVIII – XIX вв. – с запада на восток и с юга на север. Эти миграции отмечены с Оби в районе Березова, Северной Сосьвы, Конды в низовья Оби, на Казым.
Ханты низовий Оби относились к Обдорской волости. В составе нижнеобских хантов выделяются группы обдорско-куноватская, березовско-казымская и атлым-шеркальская. На протяжении XVII – начале XX вв. обдорско-куноватская группа хантов проживала по Малой и Большой Оби с притоками Полуй, Собь, Куноват, Сыня, Собтыеган и Войкар. В их составе выделяются южная группа – «малай ех», охватывающая территорию Куноватской волости и часть Обдорской, и северная – «нум хапи», проживающая ниже Обдорска на реках Собь и Собтыеган. На нижней Оби известны родовые группы, причисленные к обдорско-куноватским хантам: к «лев охаль» – народу реки Сосьвы и «ай лев ех» – народу малой Сосьвы.
Проживающие в устье Полуя, чуть выше Обдорска (Салехард), северная группа хантов известна как «пастэр ех». Приобщение северных хантов к оленеводству повлекло за собой восприятие основных элементов ненецкой культуры. Особенно заметно ненецкое участие в культуре северных хантов обдорско-куноватской группы. Ханты, проживающие на правых обских притоках Куновата, Питляра и Собтыегана, имели небольшие стада. У ханты, живших в устье Оби и на побережье Обской губы, сочетались тундровый крупностадный и лесотундровый типы оленеводства. Часть хантов вошла в состав тундровых ненцев: Неркагы – «Выл посл ех» – большой протоки народ; Тибичи – «Осяс ех»; Пандо – «Охсар юган ех» – лисьей реки народ; Поронгуй – «Похрын ех» – проточные; Салиндер – «Пульновыт ех» – устья Полуя народ; Лар – «Поль ех» – реки Полуя народ. 131
Численность хантов: по данным IV ревизии 1782 г. было зафиксировано 2927 человек, по данным VII ревизии – 3339, по X ревизии – 3180 человек. В 1850 г. в Обдорской волости среди кочующих насчитывалось 1716 муж. 1464 жен. из них:
Юрт Обдорского городка – 130 муж., 104 жен., из них некрещеных – 99.
Юрты Пашерцовые – 103 муж., 94 жен.
Роду Тобольчина – 78 муж., 61 жен., из них крещенных – 22 муж., 14 жен.
Юрты Ендырские – 303 муж., 265 жен.
Полуйский городок – 152 муж., 128 жен., из них крещеных – 86 муж., 71 жен.
Шурышкарский городок – 100 муж., 111 жен.
Вандиязские юрты – крещеные: 23 муж., 18 жен.
Войкарский городок – 134 муж., 126 жен.
Аспугольский городок – крещеные: 63 муж., 60 жен.
Собский городок – крещеные: 66 муж., 57 жен., некрещеные: 151 муж., 115 жен.
Войтважские – некрещеные: 89 муж., 81 жен.
Воксаровские – некрещеные: 83 муж., 68 жен.
Ворважские – 69 муж., 68 жен.
Казымские – 21 муж., 22 жен.
Надымские – 100 муж., 99 жен. 132
В Куноватской волости Обдорского отделения кочующих хантов 958 муж., 884 жен.:
Сынского городка – 247 муж., 199 жен.
Мужинского – 40 муж., 41 жен.
Войкарские – 48 муж., 54 жен.
Куноватские городки – 129 муж., 152 жен.
Киеватские – 47 муж., 41 жен.
Качегатские – 24 муж., 20 жен.
Тегинские юрты – 24 муж., 26 жен.
Усьсосвинские – 20 муж., 10 жен.
Кушеватские городки – 72 муж., 52 жен.
Лангивожские – 22 муж., 28 жен.
Кыжгорские – 75 муж., 89 жен.
Войтские юрты – 44 муж., 41 жен.
Питлярские – 44 муж., 54 жен.
Вандиязские – 78 муж., 75 жен.
Собские – 23 муж., 17 жен. 133
На севере ханты вступали в контакт с ненцами, часть их, особенно оленеводы, была ассимилирована ими. Процессы обрусения ханты в XVIII – XX вв. также происходили довольно интенсивно, особенно на Иртыше, Оби, Конде.
В освоении и заселении русскими территорий проживания северных народов И. В. Побережников выделил 5 этапов, отражающих историю присоединения к России земель коренного населения, административно-политического, хозяйственного и культурного освоения края. Освоение северных территорий Западной Сибири имело свою существенную специфику, которая обусловливалась огромной площадью. Почти две трети территории Сибири (таежная, притундровая и тундровая зоны) были малопригодны для заселения, оставаясь сферой обитания коренного населения и местом пушного промысла. 134
Непригодный для земледелия и крайне суровый по климату край требовал специально выработанных многими поколениями хозяйственных и бытовых навыков, которыми обладало коренное население лесотундры и тундры. Они интересовали правительство исключительно как источник пушнины: «30—50 лет тому назад пушной товар здесь был в таком изобилии, что за штоф хорошей водки (ввоз, которой был воспрещен в улусы инородцев) можно было получить соболя, стоящего 7—8 рублей, чем тобольский промышленник и пользовался» – сообщал К. Голодников. Казна получала около 1/3 всей пушнины без всяких материальных затрат в виде десятинной таможенной пошлины. В связи с этим можно с уверенностью сказать: первоначальным этапом освоения Сибири была промысловая колонизация, приводившая к взаимообогащению русских и коренного населения, среди которого к XVIII в. было несколько этнических групп со своей экономикой, языком, культурой, религиозными верованиями и т. д. 135 136
Заселение севера Западной Сибири совершалось, в основном, с Русского Севера. Это направление длительное время служило каналом проникновения русских вглубь сибирских просторов. Первыми заселенцами Зауралья были жители Поморья – холмогорцы, пинежане и мезенцы крупных торговых центров Великого Устюга, Вологды и Сольвычегодска, а также из Москвы, Нижнего Новгорода, позднее – из Казани; жители бассейнов Печоры и Вычегды – коми-зыряне и вымичи. Они строили на землях коренного населения зимовья, фактории, где собирали меха. По ходу продвижения и оседания в районах Севера поселенцы, безусловно, брали в расчет особенности географической среды, природно-территориального комплекса с характерным для него геологическим строением, рельефом, почвами, растительным покровом, животным миром, климатом, что в совокупности определяется понятием ландшафта. Естественный ландшафт как природная основа процесса освоения в ходе целенаправленной деятельности переселенцев изменялся, окультуривался. Умение приспособить окружающую среду к своим насущным потребностям и самим приспособиться к ней во многом определяло успешность освоения Севера даже в самых малоподходящих районах. 137 138
Суровый климат и природа оказывали заметное влияние на хозяйственное развитие края, приводя к потерям урожая, затрудняя общение людей и перевозку грузов. Поэтому освоение этих земель шло неравномерно и во многом стихийно. Отсюда – крайне низкая плотность русского населения, количество которого было явно недостаточно для создания развитой экономической базы. Прочное освоение земель, в том числе и в зоне с неблагоприятными естественными условиями, обеспечивалось комплексным характером хозяйствования русских. Сочетание производительных и присваивающих занятий в разном их соотношении, подкрепленное административно-идеологическим и военно-политическим ресурсом, позволяло пустить корни в самую «бедную» почву, приспособиться к самой неблагоприятной среде. Тундровые и притундровые земли ненцев в хозяйственном отношении осваивались русскими мало, оставаясь сферой обитания малочисленного коренного населения и местом пушного промысла: «От Березова до Обдорска совершенное безлюдье, пустыня. Если кое-где и кочуют остяки или самоеды, то едва ли можно считать их за людей промышленных». 139
Русские периферийных групп, оказавшись в новых природно-хозяйственных условиях и в тесном соприкосновении с другими народами, как правило, не утрачивали своего языка и самосознания. Сохраняя, в основном, свой традиционный культурно-бытовой облик, они в процессе приспособления вырабатывали новые черты быта, заимствуя иногда многие элементы культуры, особенно хозяйственной, у местного населения. Русские приносили с собой и распространяли среди местного населения, оказавшиеся полезными хозяйственные навыки и приемы, содействовали, например, распространению оседлости у кочевых народов, созданию промышленности, строительству городов и росту культуры. Несмотря на многовариантность своих проявлений, русская народная культура оставалась единой: основу ее составляли прочные этнические традиции, которые вместе с инновациями, входившими в быт на разных исторических этапах, составляли национальное своеобразие.
Целые поколения поморских промышленников традиционно были связаны с пушными промыслами в Обдорском крае. Как отмечал Н. С. Щукин, поиски корней большинства русского населения в Западной Сибири уводят в «Архангельск, Вологду, Тотьму, Устюг и другие северные города». В XVIII в. в составе переселенцев стали преобладать выходцы из центра России: Воронежская, Курская, Рязанская, Вятская и другие губернии. П. Н. Павлов, проведя специальное исследование на основе таможенных десятинных книг, пришел к выводу, что основная масса пушнины добывалась и вывозилась преимущественно выходцами поморских уездов. 140 141 142
Период с XVII по начало XIX вв. И. В. Побережников охарактеризовал как «обдорский», когда шел процесс складывания специфической локальной этнографической группы русских, обладающих существенным культурным и языковым своеобразием. В связи с хозяйственным освоением окраин и вызванными им массовыми переселениями русского населения в различные исторические периоды из одних районов в другие происходило, с одной стороны, смешение различных областных групп, образовавшихся ранее, с другой – формирование новых групп в ходе приспособления переселенцев к новым условиям жизни и в результате их контактов с местным населением. 143
По данным ревизских сказок русских было зафиксировано:
По Обдорской волости:
Всего проживало в Обдорске: 1794 г. – 728 человек; 1800 – 871; 1810 г. – 1055; 1820 – 1027; 1830 – 1026; 1840 – 1083; 1845 – 1116. 144
В начале XVIII в. стали укрепляться опорные пункты, которые облегчали увеличение числа плательщиков налога. В процессе устройства в Нижнем Приобье российской административно-территориальной системы коренное население было включено в две инородные угорско-самодийские (по своему составу) волости – Обдорская и Куноватская. Обдорская «самоедская» волость включала в себя полуостров Ямал, полуостров между Обской и Тазовской губами, северную часть местности, находившейся восточнее хантыйских волостей. Русские расселились в пяти волостях: Кондинской, Елизаровской, Кушеватской, Обдорской и Подгородной вперемешку с хантами, коми-зырянами. Были и чисто русские поселения, непохожие на деревни центральной России: «Это какая-то кучка беспорядочно разбросанных домишек с клетушками и амбарушками, и массой переулков. Улиц совсем нет; дворы неогороженны. Порядочных домов вы не найдете, а если и встречаются иногда, то дома эти, по большей части, принадлежат или причту, или местным торговцам, которых в каждой деревушке имеется 2—3 человека». Русских на Обдорском Севере насчитывалось 2245 человек, которые расселились в 10 селениях, лежащих по Оби и ее притокам. 145 146