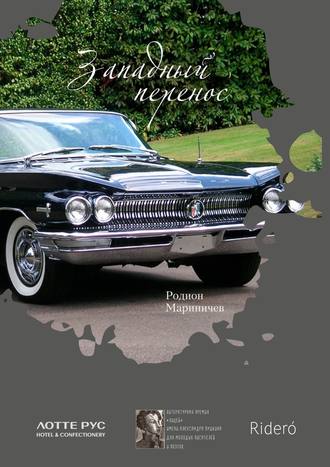
Полная версия
Западный перенос

Западный перенос
Родион Мариничев
© Родион Мариничев, 2019
ISBN 978-5-4496-8508-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Очередь движется быстро, и тележка почти равняется с длинной лентой кассы, заваленной бутылками с водой, нарезками ветчины и сыра, огурцами-помидорами, пачками с хлебом, брикетами йогуртов, «букетом» мужских носков…
– Я же говорю: сначала выкладывай тяжёлое, а ты с хлеба начинаешь! – Марина швыряет на ленту пластмассовый разделитель и выуживает со дна тележки полуфабрикатные шашлыки в пластмассовом ведёрке. – Срок годности посмотрел?
– А творог тебе зачем?
– А ужинать мы чем будем? В холодильнике шаром покати…
«Хромая» тележка со сломанным колесом качается, словно попавший в бурю баркас.
– Твою мать, ещё и тележку ущербную полчаса катали! Не мог нормальную взять!
Голос у Марины низкий, даже чуть грубоватый. Завелась, как перегретый «Жигуль», – вот-вот взорвётся.
– Да какая разница?! Всё равно ты потом всё это по пакетам распихивать будешь! И шашлыки лучше оставь, пока не поздно. Я же говорю, – они стухнут в дороге!
У Глеба, когда он на взводе, голос, наоборот, высокий, тонкий. Кажется, ещё немного – и этот широкоплечий мужик с пятидневной щетиной запоёт.
– Прежде, чем, как ты говоришь, «распихивать» по пакетам, всё нужно снова сложить в тележку и быстрее отойти от кассы, чтобы очередь не задерживать! И в итоге ты сначала побросаешь помидоры, которые тебе посчитают первыми, а потом прижмёшь их консервными банками!..
«Больное» колесо не выдерживает и отваливается. Марина хватает тележку за край.
– Тебе бы такой логичной быть, когда ты Сашку на переднее сиденье сажала… – Глеб уже начинает сбавлять обороты и опускать голос в более привычную, низкую октаву.
– Заткнись! – по-солдатски почти мужским тембром отчеканивает Марина.
– Держи себя в руках!
Она хватает из тележки пакет со свежайшим развесным творогом и швыряет Глебу в физиономию, отчего он становится похожим на Деда Мороза. Марина поднимает руки ко рту, как испугавшаяся девочка. Отплёвываясь, Глеб подаётся вперёд к жене, натыкается на тележку и опрокидывает её. Прежде, чем успевают подбежать охранники, по полу раскатываются помидоры, растекаются вывалившиеся из прорванных ячеек йогурты, закатывается под кассу пластмассовая миска с шашлыками, а банка со шпротами отъезжает куда-то вдаль и там, наткнувшись на что-то, кружится, словно кольцо от пирамиды, и со звоном замирает.
– Девушка явно с юга! – наслаждается зрелищем очередь.
– Скорее даже с Востока!
– А парень северный, блондин!..
– Вернёмся из отпуска, – разойдёмся на все четыре стороны! Сопротивляться бессмысленно, – тяжело дышит Глеб, выковыривая творог из щетины. – Но сболтнёшь детям что-нибудь раньше – убью!
– Оккупант! – бросает сквозь зубы Марина. У неё голос тоже понемногу становится выше, возвращаясь в свою тональность.
Глеб переводит взгляд на охранника, бегущего на всех парах во главе целого отряда в чёрной форме, маскирующей бронежилет, и снова на Марину. Раскрасневшаяся, она тяжело дышит и машинально поправляет волосы. Потом лезет в сумку за влажными салфетками. Глебу кажется, будто он только что с треском проиграл раунд. Лет сто пятьдесят назад, ещё в школьные времена, он был лучшим боксёром города в своей юношеской категории, и каждый проигрыш, которых по пальцам перечесть, становился для него настоящей трагедией. Проигрывать он умел плохо. А тут жена сделала его, словно новичка.
Когда они выходят на парковку, уже начинает темнеть. Тележку им поменяли. В ней – всё, что уцелело после «кораблекрушения». Творог Марина вычистила почти весь: только на виске у Глеба белеет неуловимое творожное зерно.
– Руль в твоём распоряжении, – говорит он ей, запихивая пакеты в багажник.
– Ты садись. Вдохновения нет.
Эти показательные режиссёрские замашки! Когда у детей спрашивают, кем работает их мама, они с гордостью (а иногда хором) отвечают: режиссёром. Режиссё-ором? – картинно удивляется собеседник. Глебовой-то работой так никто не восхищается. Чего там – менеджер и менеджер. С дополнением: по продажам.
То, что Марина устала, видно и сейчас. Плюхнувшись рядом на пассажирское кресло, она закрывает глаза и откидывается. На шее – от уха до подбородка – морщина, которую Глеб что-то не припомнит, отросшие пряди сбились, закрутились вокруг уха. Последние годы Марина коротко стриглась, и в этом они с Глебом тоже не сходились: он любил длинные волосы, до самой талии, как на Маринкиных старых фотографиях, но бороться было бесполезно: секутся, пачкаются, седеют… И ещё миллион аргументов, с виду железных.
В полном молчании они выезжают с парковки и мчатся к дому. Пробок в это время уже нет – тем более, здесь, в малоэтажных кварталах Ясенева, с его изогнутыми улицами, обсаженными… нет, не ясенями, как это ни удивительно, а липами. Лето в этом году позднее, так что липы ещё не отцвели, и если оставить на ночь машину на улице, по утрам приходится выгребать из-под дворников на лобовом стекле белые цветки с длинными семенами-перьями. Так и едут, не проронив ни слова. Подъезжая к дому, Глеб понимает, что скоро навсегда изменится привычная цепочка действий: пультом открыть ворота, загнать машину вниз, в полуподвальный гараж, упереться фарами в стену, вдоль которой стоят велосипеды: два взрослых и два детских, один из них – четырёхколёсный. Заглушить мотор, хлопнуть дверцей, подхватить мешки с продуктами, наткнуться на удочки со спиннингами, которые торчат прямо у двери в прихожую… А в прихожей – почти «иконостас»: на полке за стеклом – кубки и грамоты, заработанные на ринге потом и кровью. Марина жаловалась, что и без того не слишком просторно и порывалась убрать куда-нибудь подальше эти «фетиши». Она вообще любила вдруг перевесить фотографию, переставить мебель или что-нибудь выбросить. Но тут уж Глеб стоял намертво. Память о тех победах была ему дорога, а в последнее время – особенно.
За последние десять лет Глеб сильно привязался к Ясеневу, хотя когда-то ему казалось, что он едва ли привыкнет жить на юге. Здесь, ровно на пятнадцатом километре от Кремля, ещё четверть века назад проходила граница Южной Москвы. Здесь заканчивался крохотный анклав России, и там, дальше, за бывшей усадьбой Узкое, вновь начиналась Великогерманская Империя, в которой Глеб родился и вырос.
Этой ночью, уперев глаза в потолок, он вдруг вспоминает свою бабушку по отчиму, которую никогда не любил. Бабушка Эльза, переселенка из Саксонии, полжизни проработала пограничником на станции «Театерплац», которую потом, после Воссоединения, переименовали в «Театральную». Зелёная линия долгое время была единственной связывающей под землёй Северную и Южную Москву. С южной стороны, в Замоскворечье, был свой погранпереход на «Новокузнецкой». Коммунисты успели достроить её в середине войны, уже после поражения в Сталинградской битве, но ещё до сдачи Москвы. Между двумя станциями, под рекой, ходил поезд-челнок, и бабушка говорила, что ездить на нём можно только по специальному разрешению, которое выдаётся очень важным людям. Кто эти «важные люди», Глеб не понимал, и одно время самой заветной его мечтой было прокатиться на этом таинственном поезде-челноке, мчащемся на юг.
Это бабушка научила его певучему саксонскому диалекту, с длинными растянутыми гласными и обилием шипящих. Услышав такой «сельский немецкий», в Берлине улыбались, но Глеб любил именно его и говорил на этом наречии, ничуть не стесняясь. Язык – пожалуй, единственное, что Глебу было близко в своей приёмной бабушке… Впрочем, нет. Она пекла сногсшибательный штрудель с черничным вареньем и решала задачки по математике для начальной школы, объясняя, как движутся навстречу друг другу два поезда между городами А и Б, что такое скорость сближения и как её высчитывать.
«Это Дрезден», – говорила она, рисуя жирную точку, – А вот это – «Москва».
На другом конце листа появлялась ещё одна жирная точка с неизменной буквой М. А затем – стрелочки, циферки, снова стрелочки, иногда даже флажочки и человечки. Глядя на всё это, Глеб представлял, что на тетрадном листке вдруг ожил целый мир, и вот он, поезд с округлыми шлафенвагонами1, спешит из Дрездена в Москву, чтобы прибыть на Берлинер Банхоф2. А другой мчит в обратную сторону, и они встречаются где-то около Варшау… Самолёты она не рисовала – видимо, потому что боялась летать.
Младший братец в это время катал по полу игрушечный локомотив с бордовыми вагончиками. Слишком мал ещё, чтобы решать задачки, так что бабушка ему слова грубого не говорила, тем более, он – любимый и кровный внук. Мама где-то далеко, на кухне, что-то резала – только слышно было, как нож ударяет по доске, – или мыла посуду. Папа на работе, в институте. Он приходил вечером и приносил в пакете брауншвейгскую колбасу с кругляшками жира…
Спальня прямо над гаражом. По другую сторону от лестницы – детская. Саня и Ваня пока ночуют в одной комнате, хотя кого-то из них скоро собирались переселять в гостевую…
Глеб смотрит на спящую Марину, снова цепляется взглядом за её морщину на шее, а затем отворачивается, закрывает глаза и, пытаясь заснуть, видит перед собой бабушкино лицо. В раннем детстве Глеба, в самом конце семидесятых, бабушке было уже под шестьдесят, так что её широкий gesicht3 он не может представить без морщин, хотя сто раз видел добротные чёрно-белые холсты, на которых она – молодая, улыбающаяся, как будто всю жизнь собиралась быть счастливой. Бабушки нет на свете уже семнадцать лет, а Глеб видит сейчас её так чётко, будто бы она только вчера рисовала стрелочки и кружочки. Она улыбается, а потом вдруг вскидывает брови и начинает кричать. В такие минуты Глеб включал защитную реакцию: ему становилось смешно, и он плохо сдерживал усмешку, за что не раз получал по губам и после этого чувствовал, как в нём поднимается нелюбовь. Он часто мечтал о том, что вырастет и уедет от бабушки в Южную Москву, на том самом поезде-челноке, и никто никогда не вернёт его назад… Бабушка кричит и кричит, и, подавляя смех, Глеб слышит шипящие саксонские согласные, а младший братец, как ни в чём не бывало, катает по полу свой бордовый пластмассовый поезд. И вдруг бабушка снимает пиджак и вешает на стул. Это форма пограничника. Где-то в коридоре, на вешалке, ещё осталась зелёная фуражка с чёрным крестом на лбу.
Вообще-то бабушка Эльза никогда не называла его Глеб.
«Готтлиб!» – говорила она, – «Чтобы был дома не позже семи!».
Их дома на Циркусштрассе теперь нет. Его снесли несколько лет назад, разворотив полквартала и втиснув огромный, как кусок Антарктиды, бизнес-центр, сверкающий синим стеклом. Циркусштрассе – нынешний Цветной бульвар – всегда оставался бульваром. Захватив Москву, Гитлер быстро отремонтировал разбомбленный цирк, так что, как вспоминала бабушка, летом сорок пятого они с дедом уже ходили на представление, и на арене выступали африканские слоны. Рассказывая это, она улыбалась и, если бы не морщины, то улыбка была бы почти такой же, как на тех довоенных чёрно-белых холстах. Дед Генрих (его портрет висел в коридоре) был врачом, работал неподалёку, в Кранкенхаусе, госпитале имени Хандлозера4, – большой Аполукруглой больнице светло-серого цвета, выходящей на Гроссринг. Вот им и досталась служебная квартира в бывшем доходном доме на углу Циркусштрассе и Гроссринга, где в сорок шестом году родился Отто Кремер, которого Глеб всю жизнь называл папа.
По вечерам папа приходил из института. Это слово Глеб выучил одним из первых. Он знал: папа каждый день уходит в институт, потому что он – учёный. Он знает всё, что ни спросишь: почему дует ветер, почему идёт дождь, как так может быть, что лестница в метро едет сама?
«А папа тоже врач?» – как-то раз спросил Глеб маму.
«Нет, папа – физик…».
Хотя старинная немецкая фамилия Кремер переводится как «лавочник», папины предки были врачами и аптекарями. Так, по крайней мере, говорила бабушка.
«А Ланге – тоже немецкая фамилия?» – как-то спросил Глеб.
«Конечно!».
«А Мелдерис?».
«Мелдерис – латышская», – сухо ответила бабушка, – «Ты разве не знаешь?».
«А ещё какие есть фамилии?» – не унимался Глеб.
«Какие угодно: русские, французские, английские, китайские, татарские…».
«Татарские?» – удивился Глеб чудному звучанию этого слова.
«Да, татарские», – ещё суше ответила бабушка.
«Это какие?».
«Нигматуллин, Ахмадуллин, Нуретдинов, Бизянов…».
Последнюю она произнесла чуть тише и громко добавила:
«Если хочешь гулять, иди прямо сейчас, а то стемнеет!».
В этой интонации не было ни грамма любви. Бабушкин голос звучал или сухо, или сердито. А другой бабушки у Глеба не было.
Вдоль бульвара ходил трамвай. Глеб ещё застал его: длинные тёмно-жёлтые вагоны, пригнанные из «западных земель», издавали до того пронзительные звонки, что в окрестных домах дрожали стёкла. Затем трамваи убрали с Циркусштрассе, и стало непривычно тихо. Это было уже незадолго до Воссоединения.
«Ну, чего ты пришла?» – молча спрашивает он, открывая глаза, – «Спать давно пора!»
Бабушка Эльза молчит в ответ, а потом снова начинает улыбаться, как ни в чём не бывало.
«Ну, давайте, приходите все! И папа, и дедушка Генрих, которого я в глаза не видел, и Марлен! Мне же завтра не надо поднимать себя за волосы в полшестого, садиться за руль и ехать полторы тысячи километров! Давайте же, смейтесь, кричите, рисуйте флажки, сколько вам влезет! Вот ты, дедушка Генрих, сними свой белый халат, повесь его сверху на бабушкин пиджак и расскажи, какого хрена ты забыл в этой далёкой Москве, с душным и пыльным летом и выстуженной русской зимой? Чего тебе не сиделось в своей Вестфалии, где снег-то видят пару недель в году?»
«Это нож дедушки Генриха!» – сказала однажды бабушка, вынимая из ящика старого, слегка рассохшегося, письменного стола деревянный ножик. До этого момента Глеб видел только железные ножи, да и то – на кухне. А этот – деревянный и в комнате!
«Он игрушечный, да?» – спросил Глеб.
«Какой же он игрушечный? Он острый! Аккуратно, порежешься!» – бабушка потянулась и отобрала нож.
«Аккуратно, порежешься!» – поддакнул вбежавший в комнату младший братец.
«А почему деревянный?» – обиженно спросил Глеб, оставшись с пустыми руками.
«Он для резки бумаги, разве ты не видишь?» – она сложила тетрадный лист пополам, ловко провела по сгибу ножом, и лист распался надвое.
«Бумагу же ножницами режут…».
«Ножницами режут, и ножом тоже можно. Дедушка этот нож любил. Он привёз его из Мюнстера. У него, кстати, их два было – он второй подарил твоему двоюродному деду Андрису…»
«Я тоже хочу нож!» – законючил братец.
«Марк, только из моих рук!» – бабушка положила трофей на ладони и поднесла к его лицу, – «Ты же видел, как я сейчас разрезала бумагу! Нож очень острый!»
Но едва ли не чаще дедушка Генрих орудовал другими ножами, вернее, скальпелем. В Москву военного хирурга Кремера перебросили в сорок третьем, сразу после взятия коммунистической столицы. Гитлеру удалось то, что в своё время довольно плохо удалось Наполеону, для которого покорение Москвы в конечном счёте обернулось позорным изгнанием. Гитлер же закрепился здесь всерьёз и надолго. И едва ли не самое ценное, что было в замерзающем городе, это больницы, да ещё какие! Просторные, крепкие, словно скалы: Первая Градская, инфекционная, больница Склифосовского… Именно в ней и начал оперировать дед Генрих, проводя в день по пятнадцать операций… Так, по крайней мере, говорила бабушка, убирая деревянный нож обратно в ящик письменного стола.
Они познакомились уже здесь, попав в образованный накануне нового сорок четвёртого года рейхскомиссариат Московия.
«Кремль был почти цел», – рассказывала бабушка, – «Стены только в некоторых местах разрушены, но их довольно быстро восстановили. Правда, соборы, конечно, пострадали от бомб, а самый высокий, с колокольней, русские взорвали при отступлении. Это же когда-то был один из их главных соборов! Главнее – только Базилиус…» Она говорила и перекручивала фарш на мясорубке или резала картошку специальным волнистым ножом – так, что потом на сковородке картофелины тоже были волнистыми, словно маленькие гребешки… Глебу даже показалось, что он вдруг почуял запах «Karto», как сам называл его в детстве. И сразу захотелось есть.
«Голода не было – это вранье! При советах да, был голод, конечно, не такой, как в Петере, но когда Гитлер наступал, коммунисты вывезли отсюда всех, кого только можно. Остались только те, кто не захотел уехать. Их начали выселять уже после войны…».
Глеб и сам долго не мог отвыкнуть говорить «Петер», как называли город при Рейхе. Гитлер вернул ему почти историческое название, так и не решившись переименовать кардинально. Русское «Питер» звучит красивее, но чуть только скажет кто-нибудь «Петер» – и сразу вспоминается продолговатый Peterbrot, который пекли и в Москве, правда, в восьмидесятые, уже перед Воссоединением. За ним, как и много за чем, приходилось стоять в очередях.
Деда бабушка увидела на каком-то празднике – кажется, дело было на Первомай. Ей – двадцать с небольшим, и она чистокровная арийка, немного склонная к полноте. Ему – на одиннадцать лет больше, и он не хуже вписывается в приличную расовую картину. Хотя, по бабушкиным рассказам, дед был немного темнее: видимо, там, в его Вестфалии, в род кто-то подмешался: не то француз, не то занесённый на север итальянец. Но для бабушки даже в те зубодробильные времена это, в общем, не было главным, а уж к концу жизни она и вовсе стала почти космополиткой, правда, коммунистов терпеть не могла, называя их не меньшими злодеями, чем фашисты.
Глеб не очень любил эту хрестоматийную семейную историю знакомства в только что завоёванной Москве. Ему казалось, он подслушивает рассказ о жизни совершенно чужих ему людей и что Москва, которая вскоре будет поделена на сектора, – вовсе не та Москва, которую он знает всю жизнь. Так или иначе, бабушка и дед поженились через несколько дней после капитуляции СССР, тоже в мае, то есть, через год после знакомства. Поэтому когда-то давно, ещё до рождения Глеба, в семье отмечали два праздника подряд: День победы над коммунизмом и годовщину свадьбы.
Смотрящий со стены дед Генрих казался спокойнее и мягче бабушки Эльзы. Одно время Глеб был уверен: дед наверняка разрешил бы прокатиться на том таинственном поезде, который ходит в Южную Москву, не требовал бы возвращения домой в семь вечера и не заставлял решать задачи. И ещё он, наверное, никогда не кричал. Ведь разве врачи кричат? Бывало, что, злясь на бабушку, Глеб выбегал в прихожую, подходил к портрету деда и смотрел на него снизу. Пожилой лысеющий мужчина в тёмном пиджаке с приколотыми наградами смотрел немного исподлобья. Взгляд поверх круглых очков словно говорил: «Успокойся, мой мальчик! Когда-нибудь у тебя всё будет хорошо…».
Глеб снова поворачивается и смотрит на Марину. Она спит, дышит тихо, прядь чернеет на подушке. Он дотрагивается до её волос и аккуратно проводит по ним пальцем. Ничего. Ни малейшего шевеления внутри, как будто погладил стену. Хотя Маринкины волосы – это то, что заводило его с пол-оборота, стоило ей снять шапку или отцепить заколку. Как, например, в тот солнечный день, когда она въехала в него на перекрёстке. Это был исход зимы – самое время гололедицы, от которой не спасала ни зимняя резина, ни противобуксовка. Остановившись на светофоре, он через несколько секунд почувствовал удар сзади. Марина выскочила первой. Глядя в зеркало, Глеб увидел, как она поправляет длинные – почти до талии – волосы, разглядывая смятый бампер своей машины.
«Солнце ослепило…”, – виновато улыбнулась она.
Глеб в ответ тоже улыбнулся.
«Ты, наверное, татарка…» – как-то сказал он ей в самом начале их отношений. Она помотала головой. «Ну, или башкирка! Хоть на какую-то часть точно! У вас же там татары с башкирами рядом живут…”. Она усмехнулась. «А, может, еврейка?» – подмигнул Глеб. Она рассмеялась, но снова не ответила, и Глеба это окончательно разоружило. Он знал, как действовать, когда на него кричит женщина, а вот когда она только смеётся и молчит, вставал в ступор. Марина была типичная русская с Востока: свободная, прагматичная, самостоятельная. Ходила быстро – не угонишься. Глебу поначалу всё время приходилось её догонять. Ей, пожалуй, недоставало только одной черты: осторожности, которая была присуща людям из Восточной России. Она не только быстро ходила, она ещё и за рулём часто превышала скорость. Однажды это обернулось аварией, в которой чуть не погибла дочка. И это был первый удар по их браку: Глеб долго не мог простить жене этой чрезмерной свободы, переходящей в безалаберность. После этого Марина какое-то время была аккуратнее, но потом всё снова вернулось на круги своя. Иногда Глеб удивлялся: чего она приехала ловить на Западе, где, кроме Москвы и Питера, до сих пор было, в общем-то, не на что взглянуть?
«Всё хорошо», – спокойно повторяла Марина, когда хныкали дети или когда Глеб ворчал из-за очередного присланного из ГИБДД штрафа. Если бы дед Генрих был с ней знаком, они наверняка поладили бы.
Но он умер буквально через две недели после рождения Глеба. И при этом не подозревал, что на свете уже живёт человек, который через несколько лет будет считать его дедом. Как ни банально, подвело сердце: Генрих Кремер чуть-чуть не дожил до шестидесяти четырёх. Потом Глеб поймёт, что это число для Кремеров роковое: отец тоже умер, когда ему едва исполнилось шестьдесят четыре. Деду стало плохо в лифте – он поднимался домой, возвращаясь с работы. Упал прямо в кабине и пролежал какое-то время, припав к железной стенке, пока его не обнаружил тот, кто следом вызвал лифт. Позвонили в «Скорую», но было уже поздно.
«Умер мгновенно», – говорила бабушка, произнося эти два слова так, будто передвигала шкаф, – «Мгновенно».
2
Лиене… Она повторяет про себя своё имя, будто пытается заговорить с самой собой, и при этом однажды делает открытие: имя, которое она в детстве терпеть не могла, всё больше ей нравится. Краткое, но не слишком. Женственное, но не слащавое. Твёрдое, но благозвучное, – не то что Даце или Мирдза. И – такое извилистое немного, словно речка Лиелупе, которая петляет и петляет, долго не решаясь влиться в море.
Вообще-то все кругом почти всю жизнь называют её Лия. По-русски сложно выговаривать «Лиене», а «Лена» ей ну совсем не нравится – какая она Лена?!
«Лия», – как-то назвала её дальняя мамина родственница тётя Аня – не то троюродная, не то четвероюродная тётка, дореволюционная петербургская дворянка, спасшаяся в Прибалтике сначала от большевиков, затем от нацистов – и лишь благодаря своей немецкой фамилии и имени, не вызывающего ни малейшего подозрения, – «Лиечка, захвати мне, пожалуйста, плед, а то я что-то озябла!».
Самое начало шестидесятых. Они сидят на даче, в Дуббельне5, и это конец лета. Август на взморье обычно прохладный – уже почти никто не купается, но при этом все торчат на берегу: на террасах, за столиками прибрежных кафе, просто на песке среди дюн и сосен. Тётя Аня приехала погостить из Дюнабурга6, и ей уже хорошо за семьдесят, но она пока ещё живее всех живых. Отлично говорит по-немецки, по-французски, по-латышски, чуть хуже – по-английски и по-итальянски. Но Лия запомнила, что при них она чаще всего разговаривала по-русски. После смерти Гитлера это было уже можно, хотя в обиходе русский по-прежнему считался варварским, эдаким обрубком прошлого, и ещё, конечно, вражеским языком коммунистов. В детстве Лия очень плохо знала русский, но фразу про плед поняла и притащила тётке клетчатое шерстяное полотнище – огромное – хватило бы ещё человек на пять.
Такого уюта, как в Дуббельне шестидесятых, Лия больше, наверное, не видела нигде. Названия улиц, вывески, афиши писали уже на латышском, хотя, конечно, обязательно дублировали на немецком. На немецком же вещало радио, объявляли прибытие электричек, но за латышский уже давно не расстреливали и не ссылали в лагеря. «Atkusnis»7, – говорили все вокруг, щурясь на солнечные лучи. Тогда и зимы, кажется, были солнечными, с бликующими стёклами троллейбусов, с разбегающимися между сосен лыжнями и мягким, сверкающим снегом. Дунешь на него – и снежинки разлетятся. «Какая оттепель!» – сказала однажды тётя Аня, выбравшись в Дуббельн в один из зимних дней. Кажется, это был её последний приезд, и вокруг действительно капало с крыш и текли ручьи.
Одиннадцати-двенадцатилетняя Лия знала: она, Лиене Мелдерис, живёт в самой большой стране Европы под названием Великогерманская империя, в автономном Рейхскомиссариате Леттланд, в его столице Риге, и, если уж быть совсем точным, – в районе Форштадт, который, как рассказывала мама, раньше назывался Москауэр Форштадт – ещё в те незапамятные времена, когда Леттландом владели русские. Лия с ужасом думала о том, как бы она жила, если бы они владели им до сих пор. Ей бы пришлось быть пионеркой – а это, как говорила мама, ещё хуже, чем Гитлерюгенд, упразднённый после смерти Гитлера. Да и русский был куда сложнее немецкого, с его падежами, склонениями, шипением и аканьем…




