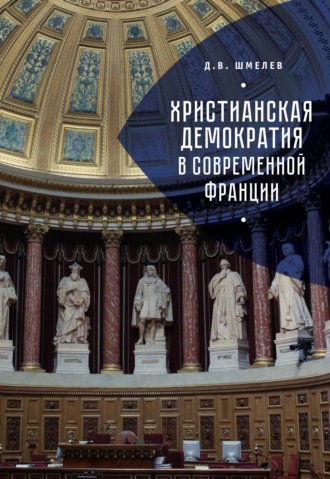
Полная версия
Христианская демократия в современной Франции
Необходимо отметить, что данная стратегия встретила поддержку значительной части активистов партии. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Ж. Ковиля, члена федерации департамента Сены, одному из руководителей партии Л. Буру от 3 февраля 1964 г. В нем отмечается, что «лучший шанс в плане политической деятельности – повернуть клевым как можно большее число избирателей правых». В более отдаленном плане Ж. Ковилем предлагалось собрать «депролетаризированных» левых избирателей, что стало бы возможным при наличии двух условий: во-первых, продвижение концепции демократической и «деконфессиональной» новой силы, опирающейся в доктрине на средний путь между либерализмом и марксизмом; во-вторых, одновременная доктринальная ревизия со стороны социалистов[8].
Это письмо, как и другие документы подобного рода, хранящиеся в партийных архивах христианской демократии, отражало намерение выйти из тех узких рамок, в которые оказалась зажатой МРП, вынужденная в годы V Республики группироваться с голлистами и «независимыми». По сути, ставилась конкретная стратегическая задача – закрепить антиголлистскую позицию (новые лидеры МРП признавали невозможность какого-либо согласия с голлистской партией Союз за новую республику (ЮНР) в данный момент по многим вопросам, хотя и допускали создание временных избирательных коалиций на местах), осуществить разворот к центру (но центру не христианско-демократического толка, как хотела долгие годы МРП, а понимаемому в широком смысле – от «независимых» до умеренных социалистов), попытаться наладить конструктивное сотрудничество с социалистами (хотя необходимо отметить, что эта цель выглядела несколько иллюзорной ввиду растущего сотрудничества между Социалистической партией (СФИО) и коммунистами). Иными словами, при любом раскладе подразумевался выход за рамки христианской демократии. Не случайно, политические наблюдатели в своих анализах предпочитают говорить о «центристах», нежели о «христианских демократах».
Многочисленные опросы, проводимые среди членов партии по инициативе ее руководства, отражали желание изменения. Например, опрос, проведенный федерацией департамента Сена в марте 1963 г. (опрошено примерно 600 человек). Причинами потери МРП значительной части своих избирателей 79 человек назвали «альянс со старыми партиями», 60— отрицательную позицию на референдуме, 51 – недостаточную программу, 46— нехватку пропаганды, 21 по причине разногласий в отношении позиции «Картеля сторонников нет». Среди других причин опрошенные назвали голосование по вотуму недоверия правительству, антиголлизм МРП, пассивность избирателей, стремление партии во что бы то ни стало участвовать в правительстве, «обуржуазивание» МРП, недостаток поддержки активистов, отсутствие «телегеничных» ораторов идр. Кроме того, 53 считали причиной измену «клерикальной» клиентелы, 36 – избирателей-женщин, 26 – молодежь, 17 – «средние классы», 4 – рабочих, 2 фермеров[9].
В этом же опросе федерации департамента Сена прослеживается отношение народных республиканцев к стратегии руководства и депутатов МРП. Из примерно 500 опрошенных создание парламентской фракции «Демократический центр» считали слишком поспешной 52 (ответили отрицательно 51). 21 считали, что необходимо отвергнуть всех тех, кто не слева или недостаточно социально ориентирован против 82, высказавшихся против такого подхода. 18 по-прежнему полагали, что МРП должна остаться оригинальной против 64. При этом только 32 рассматривали создание новой фракции в парламенте всего лишь этапом в перегруппировки политических сил, а 29 сожалели, что у нового объединения нет ни программы, ни доктрины. Наконец, 28 считали «очень трудным определить позиции, присущие МРП», в этом объединении[10].
С мая 1964 г. для освещения новой стратегии и консолидации сил вокруг Ж. Леканюэ начинает выходить новый ежемесячный орган «Курьер демократов». На его страницах обсуждались как актуальные политические и социально-экономические проблемы (например, реформа телевидения и радио, проблемы национальной обороны и бюджета[11]), так и новая стратегия христианской демократии. Издание первоначально позиционировало себя как орган «Комитета исследований и связи демократов», затем стало преимущественно органом «Демократического центра». В одном из номеров так объяснялись задачи новой стратегии ввиду неопределенности политической ситуации во Франции: подготовить постголлизм (обновляя методы, цели, людей), создать новую партию, которая «имеет целью объединить большинство людей, заботящихся о стабильной и эффективной демократии, бесспорно, знающих, потребности организованной экономики, в которой свобода предпринимательства, производства и потребления может существовать лишь благодаря координации и дисциплине, то есть демократически подготовленному плану». Новая стратегия предполагала отказ от двухпартийной системы англо-саксонского типа, нарушающей политическое равновесие, через создание широкого и стабильного объединения главных течений французской демократии, исключая авторитарную правую и крайне левых[12].
В развернутом виде размышления были представлены в брошюре, изданной в апреле 1965 г. под названием «Почему Демократический центр?». Анализируя ее текст, можно выделить несколько ключевых для того периода тезисов. Во-первых, констатация, что «границы партий больше не соответствуют реальности Франции», следовательно, надо выйти за них. Во-вторых, любой политический, экономический или социальный режим должен быть обращен к человеку, личности, интегрированной в сообщество. В-третьих, политическая демократия «требует одновременно необходимого авторитета государства, хранителя общего блага, демократического контроля власти и активного участия все большего количества граждан в осуществлении своих ответственностей». Она должна быть основана на уважении фундаментальных свобод, гарантии их реализации и признании плюралистичного характера французского общества. В-четвертых, экономическая и социальная демократия предполагает не только защиту рабочих от угрозы их безопасности, но и перераспределение плодов прогресса, свободное объединение в ассоциации, обладающие необходимыми полномочиями, доступ к культурным благам и личному продвижению. Но экономическая и социальная демократия должны развиваться в рамках планирования, свободного предпринимательства и личной инициативы. В-пятых, требование уважения конституции 1958 г. и критика правительственного стиля, «сконцентрированного на одном человеке» (имелся в виду президент де Голль)[13].
В этой же брошюре были намечены ряд реформ. Речь идет: 1) о создании Верховного суда как «независимого конституционного органа, контролирующего конституционность законов и решений», в том числе инициативу референдума; 2) реформе французского телевидения и радио, которая мыслилась прежде всего за счет расширения состава административного совета ОРТФ и наделения его правом вето на решения генерального директора, доступ к принятию решений различных политических и общественных организаций, расширение финансовой автономии; 3) региональной реформе, которая подразумевала перераспределение полномочий (особенно финансовых) в вопросах оснащения, инфраструктуры, образования, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, новое определение состава регионального экономического совета (в него должны войти представители профсоюзов, семейных ассоциаций, фермеров, торговцев и др.), развитие роли экономического и социального совета и т. п. Что касается внешней политики, то речь шла о создании европейской исполнительной власти под контролем Европейского парламента; реформе структуры Европейского парламента (он должен был бы состоять из двух палат – одной, избранной всеобщим голосованием, второй, представители которой определялись бы государствами Сообщества), создании «автономной» обороны, но с тесным сотрудничеством с Атлантическим альянсом; сотрудничество со странами третьего мира, в том числе «создание сообщества франкоговорящего африканского мира»[14].
Таким образом, высвечивались контуры новой программы. Они содержали как ряд прежних тезисов христианской демократии, так и несколько конъюнктурных требований, что призвано было подчеркнуть преемственность идей и адекватную оценку ситуации. Можно выделить три крупных блока: во-первых, отсылка к персонализму (личность, свобода и т. п.), во-вторых, требование политической и социальной демократии (государство как хранитель общего блага, планирование, свобода предпринимательства, перераспределение ресурсов), в-третьих, регионализация (децентрализация). Что касается требуемых реформ, то их перечень отражал текущее состояние функционирования институтов и ход парламентских дебатов и был призван подчеркнуть вовлеченность партии в политическую жизнь.
Муниципальные выборы 14 и 25 марта 1965 г. не привели к упрощению политической ситуации, оставшейся трудной для всех партий. Главной чертой стало фактическое отсутствие единства действия в рядах правых и левых в крупных и средних городах. Среди официальных списков СФИО был 21 список союза с правыми, центристами, МРП и «независимыми». Из 81 города с населением более 30 тыс. жителей правые выступили единым фронтом лишь в 34 городах. В 47 других городах атакам со стороны ЮНР подверглись все партии[15]. Что касается итогов выборов для МРП, то из 12 «уходящих» мэров 10 было переизбрано и выиграно 4 новых мэрии. МРП одержала верх в Блуа, Ле Мане, благодаря поддержке ЮНР, выиграла у социалистов Кламар и Бург-ан-Бресс, но проиграла в Монтобане и Шоле[16]. Ее влияние осталось стабильным.
Анализируя итоги прошедших в марте 1965 г. муниципальных выборов (которые рассматривались как срез настроений общественного мнения в преддверии президентских выборов в декабре того же года), «Курьер демократов» указывал на два важнейших результата: тенденция к упрощению «веера списков», особенно в городах (в среднем было представлено три-четыре списка в каждом), «почти полное объединение вокруг трех полюсов вместо дуэли между ЮНР и коммунистами» (левые, правые и центр как третий полюс). Касаясь политических «предпочтений», отмечалось, что на левом фланге объединения включали преимущественно коммунистов, Объединенную социалистическую партию (ОСП), СФИО, в центре – под знаком комитетов демократов (народные республиканцы, радикалы, социалисты, «независимые»), справа – списки ЮНР и «независимых республиканцев». Общий вывод бюллетеня гласил: «мэрии крупных городов контролировались центристскими списками»[17].
Дальнейшие дискуссии как в рядах МРП, так и среди политических сил, оппозиционных голлизму, прошли под знаком двух событий: возможного выдвижения кандидатуры социалиста Г. Деффера на предстоящих в 1965 г. президентских выборах и обсуждения проекта создания демократической и социалистической федерации.
Продвигая свой проект широкого центристского объединения, партия МРП не осталась в стороне от дискуссий вокруг единой кандидатуры на президентских выборах, которая была бы противопоставлена де Голлю, и проекта «Федерации». В рядах МРП все больше утверждается мнение, что партия «выполнила свою историческую миссию»[18].
Оно находит выражение в требовании реформы организационной структуры, преодолении сопротивления изменениям со стороны федераций партии, интенсификации работы доктринальных и прочих партийных комиссий. Также с приближением даты выборов для членов партии становилось очевидным, что Ж. Леканюэ разыгрывает свою личную карту, стремясь освободиться от груза прошлого МРП и что дискуссии об объединении с социалистами в его понимании не более чем политический маневр. Во всяком случае, левые активисты партии МРП вновь оказались разочарованными, а вынашиваемый ими проект «лейборизма по-французски» снова отвергнутым. Этот момент будет иметь большое значение в дальнейшей эволюции французской христианской демократии.
После провала кандидатуры Г. Деффера в июне 1965 г. и отказа А. Пинэ в сентябре того же года стать кандидатом на президентских выборах, Ж. Леканюэ в октябре сделал ключевое заявление: «Центр будет иметь своего кандидата в любом случае. Если никто не представляет более сильного потенциала голосов, чем я, то я соглашусь быть таким кандидатом». Будучи председателем МРП, Ж. Леканюэ получил поддержку ее членов. Тогда же были проведены переговоры с профсоюзами, в том числе с Французской конфедерацией христианских трудящихся (ФКХТ). После заседания национального бюро МРП 15 октября 1965 г. Ж. Леканюэ официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы[19].
26 октября 1965 г. на пресс-конференции он обозначил основные аспекты своей предвыборной программы. В экономической области он подчеркнул важность сохранения свободного обмена между западными странами и отверг возврат к протекционизму, «то есть дорогой жизни, стагнации уровня жизни и безработицы». Он отметил важность европейской экономической интеграции и создания Общего рынка. По его словам, в современном мире, где доминируют СССР, США, а завтра будет доминировать Китай, для Франции нет иного спасения кроме как «интеграция в свободную Европу»: «независимость не является реальной», а «свобода эффективна лишь в могуществе», но «могущество возможно для нас лишь в единой Европе». Ж. Леканюэ утверждал, что V Республика не дает средства для достижения этой цели. Европа в его понимании является единственным средством «не попасть под американскую гегемонию». «Это также единственное средство установить подлинное военное равновесие, включая, если понадобится, атомное, внутри Атлантического альянса и сделать возможным, таким образом, сотрудничество равных партнеров между единой Европой и Соединенными Штатами Америки», – отметил он. В случае своего избрания Ж. Леканюэ обещал скрупулезно применять конституцию. Президент должен осуществлять арбитраж, парламент должен контролировать, правительство управлять. Парламентское большинство, «перестав быть безусловным», будет полностью осуществлять свой контроль. Он также высказался в пользу «автономного, либерального и плюралистичного статуса ОРТФ [Организация французского телевидения и радио. – Д.Ш.]». Наконец, Ж. Леканюэ объявил о своем желании упростить политические течения и «создать центр политической жизни, то есть демократическое, социальное и европейское движение». Его лозунгами стали «новая политика» и «новая политическая сила». Ж. Леканюэ объявил себя «кандидатом предложения» и выразил намерение привлечь в случае своей победы к управлению страной самые широкие политические силы[20].
Впрочем, поддержка Ж. Леканюэ была размытой. Если рядовые члены МРП высказались за его кандидатуру, то отдельные лидеры партии были более сдержанными. П. Пфлимлен поддержал Леканюэ не без колебаний, скорее по «европейским причинам» и из-за приверженности того Атлантическому альянсу, уточняя при этом, что для него нет речи о проведении антиголлистской кампании и противостоянии режиму. Однако М. Шуман, например, воздержался от проведения кампании в поддержку Ж. Леканюэ из-за симпатий к голлизму. Справа Ж. Леканюэ получил поддержку Национального центра независимых и крестьян (НЦНК), таких личностей как бывший адвокат маршала Петена Ж. Изорни или лидер католиков-интегристов Ж. Сож. Слева он мог рассчитывать на поддержку радикалов М. Фора и Ж. Дюамеля, но не всей партии радикалов. Журнал «Экспресс», ранее инициировавший дискуссию о виртуальном кандидате «Месье X», поддерживал одновременно Ф. Миттерана и Ж. Леканюэ[21].
Компенсировать размытость поддержки предполагалось за счет проведения динамичной избирательной кампании. Она строилась уже по современным канонам, на американский манер. Учитывалась роль опросов общественного мнения, в избирательном штабе были специальные советники, консультировавшие по вопросам кампании (например, рекламщик М. Бонгар). Формировался медийный образ кандидата, которого преподносила как «французского Кеннеди» с белозубой улыбкой («Monsieur dents blanches»)[22]. В целом, Ж. Леканюэ можно назвать первым центристским кандидатом, использовавшим политический маркетинг.
Расчет Ш. де Голля был на повторение успеха 1962 г. и переизбрание с первого тура. Некоторые надежды на это давали данные опросов общественного мнения, показывающие, например, намерения голосовать в октябре 1965 г. за де Голля 69 % избирателей, за Ф. Миттерана 22 %, за Ж. Леканюэ 5 %. Но тактической ошибкой де Голля стало слишком позднее объявление о выдвижении своей кандидатуры – 4 ноября, когда общественное мнение стало меняться, а основные кандидаты уже вступили в борьбу. Знаковым моментом президентских выборов стало влияние телевидения. До начала кампании оппозиция почти вытеснена из него, но когда во время нее она получила доступ, то произвела «эффект шока» среди телезрителей: молодость кандидатов в противовес 75-летнему де Голлю, трансляция новых идей в противовес старым голлистским лозунгам. В итоге, к кануну первого тура выборов поддержка избирателей де Голля снизилась до 43 %[23].
В первом туре президентских выборов, состоявшемся 5 декабря 1965 г., Ж. Леканюэ удалось собрать порядка 3 767 404 голосов (15,8 %). Но этого оказалось недостаточным, чтобы преодолеть барьер первого тура. Во втором туре соревновались Ш. де Голль и Ф. Миттеран. По итогам голосования во втором туре победу одержал Ш. де Голль, набравший 54,5 %[24].
Каким образом можно оценить итоги выборов для христианской демократии? Нет никаких сомнений, что они имели большое значение для функционирования институтов и имиджа оппозиции. В перспективе выборов, как отмечают французские историки С. Берстайн и М. Винок, оппозиция оказалась перед альтернативой: отказаться участвовать в выборах, бойкотируя их, «чтобы лишить ожидаемую победу Генерала всякого значения», или выставить против де Голля единого кандидата. Обе альтернативы выглядели опасными. Отказ от участия означал бы отказ от идеи всеобщего голосования, что нарушало программные положения ряда партий оппозиции, а также маргинализацию политиков, вставших на этот путь в условиях эры массовой демократии. В этом ключе кандидатура П. Мендес-Франса как возможного единого кандидата была лишена всякой перспективы[25]. Но участие в выборах означало легитимацию этой процедуры, которая одновременно оказывалась чуждой политической культуре большинства руководителей оппозиционных партий. В итоге, оппозиция выбрала участие, тем самым сделав новый шаг к признанию институтов и правил игр. Участие оппозиции в выборах придало легитимность реформе де Голля. Но в ее рядах это было обставлено желанием лишить будущего главу государства самого эффективного его оружия – возможности прибегнуть к статье 16 конституции и права консультироваться с народом через референдум[26]. Однако Ш. де Голль проиграл в другом: выборы превратились не в столкновение между национальными политическими лидерами, а в борьбу партий, двух блоков. Сам уходящий президент вынужден был опереться на своих сторонников из ЮНР и «независимых республиканцев». Таким образом, проект исключения партий из решающего голосования провалился[27].
Этот итог четко уловило руководство МРП, которое, опираясь на высокий процент, полученный Ж. Леканюэ в первом туре, получило дополнительный импульс своей стратегии по созданию новой партии. Партии продолжали играть большую роль в политической жизни страны, хотя и были «скрыты» за своими кандидатами во время избирательной кампании. Было очевидно, что без опоры на них выиграть президентские выборы было невозможно. Осознавая этот факт, руководство МРП вскоре предпримет серьезные шаги по сплочению электората вокруг Ж. Леканюэ.
Французский политолог Ж.-Л. Шарден, комментируя итоги выборов, отметил практическое отсутствие партий в ходе президентской кампании. По его словам, «антиголлизм, как и голлизм, связан с личностью». «Живые силы», о которых часто говорили соперники де Голля, почти не проявили свою «жизнеспособность» в последней фазе выборов. В итоге, имела место достаточно традиционная кампания на основе митингов, крупных собраний, встреч с нотаблями. Единственной новацией стали телевизионные выпуски с выступлениями кандидатов. Для левых сил итоги выборов имели тройное значение: поддержка Ф. Миттерана привела к созданию нечто вроде «картеля левых сил», что делало затруднительным «центризм» Г. Деффера; ФКП вышла из политической изоляции, поддержав Ф. Миттерана; поддержка и опора самого Ф. Миттерана оказались весьма размытыми. Ситуация же для Ж. Леканюэ была сравнима с миттерановской, за исключением того факта, что Леканюэ мог безусловно опереться только на кадры партии МРП, председателем которой он являлся. Но его положение осложнял раскол электората, в котором были сильны проголлистские симпатии. Более того, во втором туре избиратели Ж. Леканюэ предпочли проголосовать за ш. де Голля, а не Ф. Миттерана, дезавуируя тем самым своего антиголлистски настроенного кандидата[28].
Важным был факт, что Ж. Леканюэ и Ф. Миттеран стали политическими фигурами первого плана. Левая и правая оппозиция перегруппировались. Партии сумели адаптироваться к новым правилам. С 1965 по 1974 г. функционирует система «институционального треугольника». Во главе нее находится президент, избранный всеобщим голосованием, затем – премьер-министр, назначаемый президентом и контролирующий проведение в жизнь президентских решений, наконец, Национальное собрание, контролирующие функции которого оказываются парализованными мажоритарной президентской партией, гарантирующей нужное голосование по бюджету и избавленной от вотума недоверия своим численным весом[29].
Еще одним итогом президентских выборов 1965 г. стало принятие центристами правил политической игры. Ж. Леканюэ преуспел в забаллотировании Ш. де Голля, но не смог обеспечить единство центристов. По мнению политолога С. Сюра, они по-прежнему делились на три категории: те, кто был положительно настроен по отношению к де Голлю, те, кто положительно воспринял кандидатуру Ф. Миттерана, и те, кто выступал за сохранение центристской автономии[30].
Реалистично оценивая разбросанность центристского электората по политическому спектру Франции, делая ставку на широкое объединение (т. е. сплочение центристского электората), Ж. Леканюэ в то же время отверг биполяризацию, предпочитая не делать явного выбора между голлизмом и левыми. Эта осознанная стратегическая ставка на широкое центристское объединение вокруг новой политической силы создавала дополнительную трудность в реализации проекта. Тем более, что налицо было совпадение между народным большинством, определяемым результатами референдума 1962 г. и президентскими выборами, и парламентским большинством, полученным в результате выборов[31].
После президентских выборов руководство МРП стало форсировать создание новой политической группировки. Еще в ноябре 1965 г., во время президентской кампании, «Курьер демократов» опубликовал программные контуры будущей новой партии, которые концентрировали внимание на следующих постулатах: 1) стабильность требует «новой силы», которая должна объединить всех демократов; 2) необходимо гарантировать полную занятость, особенно трудоустройство молодежи, развивать «солидарность нации в пользу неблагополучных категорий населения»; 3) продолжать политику «активной экспансии» в экономике; 4) развивать «Общий рынок», который предлагает «нашей экономике благоприятную среду организованной конкуренции и единственный, кто открывает нашему сельскому хозяйству перспективу растущего рынка сбыта, роста доходов и разделенного с партнерами финансирования»; 5) открытость ЕЭС Великобритании, равенство с США «в рядах переуравновешенного Атлантического альянса», равноправие с СССР в политике мирного сосуществования, поддержка стран «третьего мира» со стороны Соединенных Штатов Европы («новый гуманизм»)[32].
9 декабря 1965 г. Ж. Леканюэ заявил о предстоящем создании нового движения. 7 января 1966 г. был опубликован манифест, содержащий три основных темы: «новая сила», «план прогресса», «единая Европа»[33]. В этом же месяце на страницах «Курьера демократов» был дан анализ и перспективы политической стратегии новой партии. Отмечались успешные, по мнению издания, итоги президентских выборов для Ж. Леканюэ и центристов, но вместе с тем отвергалось мнение, что Ж. Леканюэ был «слишком справа», слишком очевидно располагал себя в правом центре, поскольку его поле маневра оказалось слишком узким из-за сложных отношений с Федерацией левых сил. Подчеркивалось, что отказ от союза с ФДСЛС был инициативой не только Ж. Леканюэ, но и продиктован эволюцией самой Федерации. Констатировался приход в политику нового поколения центристов и христианских демократов. В вопросе ближайших задач предписывалось организовать деятельность «департаментских команд» для подготовки к парламентскими выборам 1967 г.: провести социо-профессиональные исследования департаментов, расширить пропаганду и распространять информацию среди населения, развивать экономическую и социальную деятельность в рамках каждого департамента, установить контакты с организованными группами, общественными и политическими силами[34]. Иными словами, была сделана ставка на конкретные политические проекты, призванные дать быстрый результат. Было определено название новой партии – «Демократический центр» (ДЦ). Важным было вписать ее в существующий расклад политических сил.

