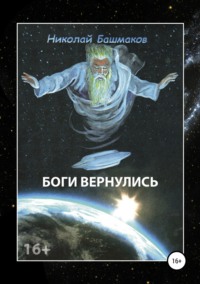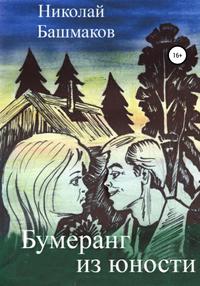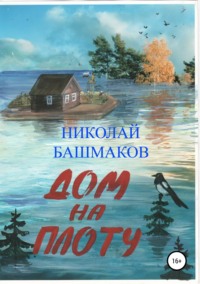полная версия
полная версияПолная версия
Деревенский Зорро
Этой заминки оказалось достаточно. Кузнецов с Кошелевым подскочили к Власову и скрутили его. Они надели на него наручники и связали ноги. То же самое проделали с Жабровым. Тот проснулся от звука выстрелов и, ничего не соображая, ошарашено озирался по сторонам.
Освобождённый заложник стоял в стороне и тоже ошалело наблюдал за происходящим. В руках он всё ещё держал ножку от табурета.
Димка увидел, как отец возится возле Ерохина. Николай Фёдорович взглянул на сына и улыбнулся:
– Ну, что стоишь, как истукан? Иди, помогай. Нужно срочно перевязать Егора.
Рана оказалась серьёзной. Власов прострелил Ерохину грудь. Егор Ильич был в сознании и тихонько жаловался другу:
– Обидно, Коля, ведь на моем счету шесть тысяч обезвреженных боеприпасов… Два года в Афгани без единой царапины… А тут… схлопотал от какой-то мрази!
Кузнецов аккуратно снимал с него одежду и негромко журил:
– Сам виноват. Почему не подождал нас? Я ведь тебя предупреждал: они могут быть вооружены.
Ерохин кивнул на Димку:
– Он сильно закричал. Я подумал: они его бьют!
Димка покраснел. Ему стало неловко оттого, что своим криком он не только не помог, но и сорвал план, который разработали старшие. Он попытался оправдаться:
– Я думал, что отвлеку Власова, и вам будет легче их схватить. Про то, что у него есть пистолет, я не знал!
Но отец прервал его оправдания:
– Ладно, разбор будем делать позже. Беги, поищи в машине аптечку. Мне нужен бинт.
Димка принёс аптечку, и Николай Фёдорович быстро и профессионально перевязал Ерохина. Как раз в это время подъехал Парнов. Они оставляли его с мотоциклом в полукилометре от хутора. Раненого поместили в машину. Туда же посадили Жаброва. Власова уложили в люльку и привязали к ней. Поехали сразу в районный центр. Там преступников сдали в райотдел, а Ерохина определили в хирургическое отделение центральной районной больницы. Здесь же, только в терапевтическом отделении, лежал с воспалением лёгких его сын Витька.
Разговор Кузнецова старшего с сыном состоялся только на другой день. Перед этим им обоим здорово досталось от Екатерины Никифоровны. Мужу – за то, что не послушался её совета и не отказался участвовать в выборах. Ко всему попёрся воевать с "бандюками". В результате пострадал Егор.
Сыну – за связь с криминальными элементами. И, если Николаю Фёдоровичу с большим трудом, но всё же удалось убедить жену в своей правоте, то Димке пришлось дать матери твёрдое слово: в сомнительных компаниях ноги его отныне не будет.
А Николай Фёдорович вдруг увидел: младший сын незаметно вырос. Хотя внешне он всё ещё походил на несформировавшегося подростка, это была уже личность, имеющая свои убеждения, знания и опыт. Он не стал журить Димку за ошибки и просчёты, а постарался вести с ним разговор, как с равным:
– Ты не против откровенно побеседовать со мной?
Димка глянул на отца и понял: на этот раз серьёзного разговора не избежать.
– Нет, папа, ты же знаешь, я доверяю тебе, как себе!
– Если ты мне доверяешь, почему ни разу не рассказал о своих похождениях?
– А нужно ли было рассказывать? Так было проще и тебе, и мне.
– Но мог, в конце концов, со мной просто посоветоваться. Ты наделал много ошибок. От некоторых я бы мог предостеречь.
– Папа, ты ведь знаешь, ошибки не совершает только тот, кто ничего не делает. Даже если бы я с тобой советовался, они были бы всё равно.
– Да…, может, ты и прав. От ошибок не застрахован никто. Но люди с богатым опытом совершают их гораздо меньше.
– Я знаю, мой опыт с твоим не сравнить. Но ведь бывают и такие моменты, когда опыт может только помешать.
– Ладно, не будем превращать наш разговор в философский спор. Лучше расскажи, что ты там под чёрной маской натворил?
Сын внимательно посмотрел на отца и задал встречный вопрос:
– Скажи, когда ты догадался, что Дублёр – это я?
– Давно. Сначала меня просто удивляли некоторые странности в твоём поведении. Впервые я заподозрил, что что-то не так, когда Егор рассказал, как тебя избил этот Костя. Я-то ведь прекрасно знаю, что ты ходил в секцию каратэ. Да и занятия по рукопашному бою в полку никогда не пропускал. А тут вдруг без боя уступил какому-то Косте. Я никак не мог понять, зачем тебе это нужно? Ну, а когда ты устроился работать к Краснову да ещё стал у него мальчиком на побегушках, пришёл к выводу: мой сынуля задумал какую-то авантюру. А дальше, анализируя все "громкие" дела, я лишь всё больше убеждался в правоте своего вывода. И, честно говоря, постоянно ждал: однажды ты ко мне придёшь и обо всем расскажешь.
– Я несколько раз хотел тебе рассказать, но каждый раз передумывал. Ты мог невольно выдать меня. Когда в деревне о чем-то знают трое – это уже не тайна!
– Второй посвящённый, надо полагать, Витька?
– Да, он знает всё. Это мой самый лучший друг и помощник.
– Вы с самого начала "работали" с ним вдвоём?
– Нет, сначала я был один. Помнишь историю с магнитофоном? Потом убийство деда Евсея. Я тогда оказался там случайно. Слышал их крики. Когда они ушли, зашёл в дом. Увидел деда и провода, отключил пробку и напечатал записку участковому.
– Ты печатал на нашей старой машинке? А я-то думал: ты отстукиваешь на ней свои рифмушки!
– Рифмушки тоже. И все записки отпечатал на ней. Поэтому её и прятал.
–Теперь мне понятно, почему ты просил никому не рассказывать про эту машинку. Я принял это за юношескую стеснительность. Но почему ты избрал вариант этого Зорро? Ведь можно было как-то иначе!..
Димка видел, отец мучительно подбирает слова, чтобы не обидеть его. Он чуть печально усмехнулся:
– Я понимаю, что ты хочешь сказать, папа. Это сильно смахивает на доносительство… И очень большая часть моих сверстников, воспитанная на всех этих "общечеловеческих ценностях", назовёт меня просто стукачом… Но это не так. Я ни на кого не клеветал, а разоблачал только преступников. Мы, молодые, но тоже видим: вся эта мнимая свобода – всего лишь ширма для ловких и двуличных людей. Мне противно видеть, как они жируют за счёт тех, кто честно работает. И никто не может им помешать. Вступить с ними в открытую борьбу я не могу. Если бы и попробовал, меня бы просто размазали. Поэтому помогал милиции тайно. Вернее мы с Витькой. А факты мы всегда давали проверенные. Благодаря им, у милиции был шанс раскрыть всё по горячим следам.
– Хорошо, сын, ты меня убедил. Об этом хватит. Мы не закончили про Витьку!
– С Витькой мы крепко поругались, когда я пошёл работать к Краснову. У того собрался хороший гадюшник. Власов, Жабров, Хамитов, да и Иваньков с Лизичевым – сволочи порядочные. Чтобы развалить это гнездо, нужно было войти к ним в доверие. Я представился простачком, которого легко приручить и использовать. Краснов на это клюнул. А Витька стал считать меня чуть ли не врагом. Потом мы помирились. И когда обкатывали на "аэродроме" мотоцикл, я ему всё рассказал. Дальше мы "хулиганили" уже вместе.
Слушая Димку, Николай Фёдорович всё больше приходил к мысли: сын из тех мерок, с которыми они с матерью к нему подходили, вырос. Эти ребята во многом правы. В обществе, где во главе всех "общечеловеческих ценностей" стоит доллар, а все стороны жизни пронизывает дух быстрой и лёгкой наживы за счёт более слабого, бороться с преступностью законными способами становится всё сложнее. Человека, открыто выступившего против криминала, быстро ломают. Так, может, и впрямь против тех, кто повсеместно насаждает кодекс уголовных отношений, более эффективными будут методы этого же кодекса? Но тогда получится замкнутый круг. И из этой криминальной ямы уже не выбраться.
И всё же повод для оптимизма есть. Сейчас многие о молодёжи говорят черт те что. Поколение, которое "выбрало пепси", обвиняют в бездуховности, лени, повальной склонности к развлечениям. Предрекают скорую деградацию и вырождение. Им бы строить новые города, а они гибнут от водки и наркотиков. И всё же хоронить это поколение рано. Здоровые силы в нем есть. И они рано или поздно возьмут верх. Придёт время, волна ненависти, насилия и бездуховности пойдёт на убыль. От всеобщего разрушения страна обязательно перейдёт к созиданию. Этого требует закон поступательного развития человеческого общества. И сегодняшние пацаны, остро реагирующие на жестокость и несправедливость, ещё скажут своё слово.
Димка закончил свой рассказ и молча смотрел на задумавшегося отца.
– Ладно, – подытожил Николай Фёдорович, – в целом мне ваша деятельность ясна. Ответь мне на пару технических вопросов. Во-первых, как тебе удалось записать разговор в сторожке? И, во-вторых, как это вы умудрились проколоть сразу шесть шин заезжим "гастролёрам"?
– Диктофон мне подарил дядя Вадим. Помнишь, они приезжали на новоселье. Записывал их несколько раз. Чаще всего это был пьяный бред. Проболтался Хамитов только однажды. За что и поплатился. Я не думал, что дело дойдёт до расправы с ним. Об этой кассете Краснову рассказал Парнов. Он на него работает.
– И Егор не знает, кто у него предатель?
– Не знаю, может он и догадывается, но прямых улик у него нет. А я знаю точно: это Парнов!
– Дима, ты должен будешь рассказать всё это Ерохину, когда он выйдет из больницы!
– Нет, папа! Я как раз хотел тебя просить о том, чтобы о нашем разговоре ты никому не рассказывал. Я найду способ сообщить дяде Егору о Парнове. Но пусть пока всё останется в тайне!
– Хорошо, хорошо, если ты так хочешь…, оставим всё, как есть! Но ты ответил ещё не на все мои вопросы!
– Для того чтобы проколоть шины, мы сделали специальную доску с гвоздями. Делали её, чтобы поймать воров, которые ночью вывозили зерно. Помнишь, взломали дверь на складе? Мы караулили их три ночи, но эти воришки больше не появились. А тех гастролёров мы увидели случайно. Наблюдали за ними в бинокль. И когда они начали бить бригадира, решили их наказать. На выезде с просёлка положили доску и замаскировали её соломой. Что ещё? Фотоаппарат ты подарил мне сам, вот бинокль я брал без разрешения. Я знаю, что это подарок. Но ты им теперь не пользуешься, а мне он был нужен. Особенно, когда следили за воришками зерна. За это ты меня прости!
– Хорошо, я тебя прощаю, – засмеялся Николай Фёдорович, – но ответь мне ещё на один вопрос. Ты думаешь заниматься этим донкихотством и дальше?
– Как тебе сказать. Ты сам учил меня доводить любое дело до конца. Наверное, самоустраниться я не смогу. Хотя с записками, пожалуй, пора кончать… Несерьёзно это.
– Хорошо, сын. Я тебя понял. Но дорога, на которую ты ступил, очень опасна. Будь предельно осторожен. На тебя начнётся охота!
– Папа, ты всю жизнь провёл рядом с опасностью. Мне есть с кого брать пример!
– Видишь ли, я имел дело с минами, "ржавой смертью". Это порождение человека, и риск действительно большой. Но если хорошо знаешь своё дело и выполняешь меры безопасности, то всегда выйдешь победителем. А ты вступил в борьбу с людьми, точнее с их худшими представителями, хищниками в образе человека. Действия их агрессивны и непредсказуемы. Эти люди коварны и изворотливы. Они почти всегда наносят удар первыми и делают это скрытно. Я все-таки тебе рекомендую лишний раз на рожон не лезть… И очень прошу, прежде чем предпринимать что-то серьёзное, посоветуйся со мной… Помни, в этом деле я твой единомышленник!
О похищении уже знала вся школа. Весь день Димка был в центре внимания. Его физиономия с припухшим левым глазом просто обязывала каждого встречного опросить пострадавшего и проявить к нему сочувствие. Вопросы задавали и ученики, и учителя. Героями, несомненно, все считали раненого участкового и Кузнецова старшего. И хотя Димке было досадно, что в глазах друзей и педагогов он предстал беззащитной и избитой преступниками жертвой, такое положение вещей его вполне устраивало. Ибо, как уже было сказано выше, он собирался и впредь играть роль мечтательного и слабосильного юноши, которого можно было заподозрить в чем угодно, но только не в проделках неуловимого Дублёра.
Посочувствовала ему и Маринка. Она подошла во время большого перерыва:
– Я слышала, тебе здорово досталось от этих подонков?
Димка взглянул девушке в глаза и не увидел в них обычного насмешливого выражения. Он потрогал синяк и небрежно бросил:
– Да так, мелочи. Жить можно.
Маринка долю секунды боролась с собой, но всё же решилась высказать то, что собиралась:
– Ты хороший парень, Димка, но тебе надо переделать свой характер. Какой-то ты легковерный и неуверенный… Смелости, что ли, тебе не хватает? Не надо давать себя в обиду! Нужно быть таким, как… Дублёр!
Маринка не могла забыть тот злополучный вечер. У неё в голове просто отпечаталось, как за считанные секунды незнакомец в маске расправился с двумя негодяями. Она говорила мягко и тактично, чтобы не обидеть юношу. Но тот и не думал обижаться. Он улыбнулся:
– Ну, нашла, кого привести мне в пример, Дублёра! У меня нет таких данных… А потом, если все будут как он, то преступники очень быстро переведутся, и через пару месяцев он останется без работы!
– А ты оказывается ехидный человек! Я ведь не говорю, что ты должен стать таким, как он, один к одному. Я говорю о твоих недостатках! Ты же всё лето прислуживал этим подонкам… И чем это закончилось? Тебе надо воспитывать в себе качества, которые должны быть у настоящего парня!
Маринка, любившая читать нравоучения, села на своего конька, но Димка её быстро приземлил:
– Недостатки есть у каждого, в том числе и у Дублёра. И нужно ли их изживать – это ещё вопрос. Иногда они просто необходимы, чтобы что-нибудь скрыть. Вот некоторые девушки в нашей школе не слушают бабушку с дедушкой. Поздно вечером гуляют, попадают в неприятные истории, но никому об этом не рассказывают!
Маринка резко вздёрнула голову и в упор уставилась на Димку. На лице у того была откровенная усмешка.
– Откуда ты знаешь про историю в парке? Костя рассказал? Или ты за нами подглядывал?
– Да нет, просто мир очень тесен, а в деревне особенно. Стоит куда-нибудь пойти, как обязательно с кем-нибудь повстречаешься.
Димка говорил спокойно и уверенно, с шутливой интонацией, и в его тоне сквозило еле уловимое превосходство. Маринка видела перед собой совсем не того робкого мальчишку, которого знала до этого. В голове у неё внезапно мелькнула догадка, но мысль эта показалась ей настолько фантастической и нереальной, что она тут же отогнала её прочь. Тем не менее, её охватила непонятная радость. И хотя она не поняла истинную причину этой радости, ей стало вдруг ясно: Димка вовсе не маменькин сынок. И есть в нем какая-то загадка. А самое главное – он проявляет к ней интерес, и она этому рада. Маринка подхватила его насмешливо-шутливый тон:
– Ох, Димка, ты у меня дождёшься! Я как-нибудь тебя поколочу!
В это время раздался звонок. Убегая, она крикнула:
– После шестого урока Татьяна Ивановна собирает нас на репетицию новогоднего концерта! Предупреди всех своих!
Глава 6
Двадцатый век приближался к своему концу. Век небывалого подъёма технократической цивилизации, принёсший людям планеты не только процветание, но и неисчислимые беды во время бесконечных войн за передел мира и господство над той или иной сферой человеческой деятельности.
Эта эпоха ещё раз доказала: мир развивается по спирали. На более высокой стадии, теперь уже во всемирном масштабе, повторялась история Древнего Рима. Одна пятая часть "свободных граждан" Земного Шара жила и процветала за счёт эксплуатации остального населения и природных ресурсов планеты.
И так же, как в древности, этот "свободный мир" был обречён. Его губили не только частная собственность, внутренние противоречия и всеобщий разврат. Его гибель предопределяла появившаяся на Востоке новая цивилизация, поставившая во главу развития противоположные этому миру ценности.
Борьба между этими цивилизациями и будет основным содержанием приближающегося века нового тысячелетия.
Россия, первой сделавшая не совсем удачную попытку двинуться по новому пути, попала в буферную зону. И от того, на чью сторону встанет эта страна с её огромной территорией и природными богатствами, напрямую зависит, будет ли продлена агония достигшего наибольших технократических "успехов" Запада или наберёт ещё более стремительные темпы успешно развивающийся Восток. И потому это глобальное противоречие явилось причиной стратегического сражения внутри самой России.
Здесь шла неравная борьба между силами, стремящимися превратить бывшую империю в сырьевой придаток "золотого миллиарда", и оппозицией, отстаивавшей самостоятельный путь развития страны. Борьба эта принесёт ещё немало бед и страданий россиянам, так как при любом повороте истории будут обязательно ущемлены те или иные социальные классы и группы, которые в совокупности и составляют общность под названием "российский народ".
На данный момент наибольшие страдания выпали на долю трудового народа, не задействованного в сферах добывающей промышленности. Особенно непросто стало жить в деревне. Отказ властей от продовольственной самостоятельности положил начало медленному вымиранию села, которое во все времена было главной опорой российского государства.
Брошенные на произвол судьбы селяне напрягали все силы для того, чтобы просто выжить. Ибо годовой доход добросовестно работающего крестьянина был гораздо меньше месячной зарплаты рабочего любой нефтяной компании. Не являлось исключением и село Большая Гора.
Закончился период перехода из старого года в новый с его непрерывными выходными и праздниками. Люди были заняты зимними заботами. Резали скот, топили печи, чистили дороги от снега, латали и перелатывали в мастерских изношенную, купленную ещё при прежней власти технику.
И всё же объем работ был несравнимо меньше, чем летом. И даже короткий зимний день позволял больше времени уделять отдыху.
Досуг каждый проводил по-разному. Основная масса людей приросла к телевизору с его бесконечными сериалами, кровавыми боевиками, юмористическими и политическими шоу. Кто-то давно плюнул на телевизор и "развлекал" себя тем, что пил всё, что горит. Кто-то, расслабившись после трудового лета, болел. А кто-то, не сделав необходимых запасов на зиму, поворовывал у "богатых" соседей.
Люди и здесь делили друг друга на "бедных" и "богатых". Хотя деление это совсем не походило на городское. Основу "богатых" в деревне составляли даже не мелкие предприниматели, которые ещё только набирали силу, а люди, работающие в поте лица, успевающие трудиться и на общество, и на своём подворье. Те, кто имел пасеку, развёл побольше скота. Кто выращивал овощи и картошку не только для себя, но и на продажу. Эти люди своим непроизводительным трудом зарабатывали хоть какие-то деньги. И, несмотря на то, что денег порой не хватало для того, чтобы нормально одеть детей к школе, "богатеи" все-таки сводили концы с концами.
Основную массу "бедных" составляли бездельники и люди, опустившиеся, а точнее спившиеся и отвыкшие "за годы реформ" от какой бы то ни было работы. Работа воспринималась ими как помеха, мешающая прожигать жизнь в своё удовольствие. Постепенно, год от года прослойка людей, которые уже никогда, ни при какой власти не будут нормально работать, всё увеличивалась.
И всё же жизнь села по-прежнему определяли те, кто трудился в этих неблагоприятных условиях от зари до зари. Они своим примером и волей удерживали село от полной деградации. Мало того, в этих людях жила уверенность, что именно село вылечит Россию и на этот раз.
За прошедшие два месяца в селе Большая Гора произошло много событий. В декабре прошли выборы в местные органы власти. Всеми правдами и неправдами главой районной администрации избрали бывшего заместителя Голованова Сергея Павловича. Прежний глава, проигравший выборы, занял место заместителя. Голованов сформировал из нужных людей команду и начал "рулить районом".
В Большой Горе с ощутимым преимуществом победил офицер запаса Кузнецов Николай Фёдорович. В команду Голованова он "не вписался", поэтому у него сразу же начались сложности в работе. Проигравший ему Краснов сдаваться не собирался и затевал интриги с целью смещения Кузнецова.
Власова и Жаброва судили. Власов оказался Сорокиным Михаилом Сергеевичем, уже более двух лет находящемся в розыске. Он получил срок и отправился в зону. Забегая вперёд, сообщим: в зоне он съел что-то несъедобное, и от этого умер…
Жаброва осудили на три года, и он был доволен тем, что следователи не раскопали его старые грехи. Сообщники взяли всю вину на себя, и их шеф и вдохновитель остался на свободе.
К Краснову из города приехал племянник Игорь Бабурин и с ним уже знакомый большегоринцам бугай по кличке Крутой. Он не скрывал того, что приехал в деревню подзаработать и изловить "скрывающуюся под маской крысу".
Витька Ерохин перенёс воспаление лёгких без осложнений. У него появилось новое увлечение – лыжи. Он заразил этим Димку, и теперь они усиленно готовили себя к армии, ежедневно наматывая по десятку километров по большегоринским холмам.
Выписали из больницы и Ерохина старшего, хотя на работу он пока не вышел. Рана затянулась, но ему предстояло не менее месяца долечиваться в домашних условиях.
С тех пор, как Николай Фёдорович стал главой администрации села, жизнь его превратилась в кошмар. Администрацию завалили проблемы, которые накапливались, как снежный ком. Любую из них, даже самую маленькую, решать было не просто.
Произошло то, что и должно было произойти. Кузнецов предстал в команде Голованова в роли белой вороны. А таких монолит районных чиновников выдавливал из системы власти. Подвергал постоянному прессингу, вынуждая их по доброй, а чаще не по доброй воле, уходить с должности.
Большегоринскую администрацию не финансировали. Отговорка была одна и та же. В районе нет денег. Хотя для кого-то они находились. И как в этих условиях должен был руководить глава администрации, если в конце января в котельных, отапливающих Дом культуры, школу и больницу, закончился уголь. В школе какие-то хулиганы на первом этаже выбили стёкла. Накапливались долги за электроэнергию. Требовало постоянной подпитки всё коммунальное хозяйство. Бюджетники сидели без зарплаты.
Приходилось крутиться, вертеться, ездить, выбивать, договариваться, рассчитываться бартером, брать в долг и делать ещё много такого, чего не было записано в обязанностях главы.
Требовали постоянного внимания и люди. Ежедневно в селе происходило множество событий. И хорошо бы радостных. Только за последний месяц два раза обворовали магазины местного сельпо, сгорело три деревянных дома, украли оборудование в мастерской и с пилорамы коммунальщиков. Пять человек работоспособного возраста умерли от отравления спиртосодержащими жидкостями, один повесился, двоих зарезали в пьяной драке… Чуть ли не ежедневно поступали сигналы о самовольной порубке и хищении леса. Люди шли и шли как с личными, так и с общественными проблемами. Иногда заходили и просто для того, чтобы прощупать нового главу. Такие просто отнимали время, которого и так не хватало.
Бывшему главе администрации, всю жизнь прожившему в селе и знавшему людей как облупленных, было легче. Тот чётко знал, кого нужно внимательно выслушать, кому действительно помочь, а кого отправить прямо с порога. Николаю Фёдоровичу приходилось выслушивать каждого.
Вот и сегодня, вместо того, чтобы пойти, как он запланировал, в больницу, ему пришлось поработать в качестве третейского судьи. Полчаса он выслушивал двух бабок, вспомнивших свою летнюю ссору, суть которой заключалась в том, что одна "подкидывала на огород соседке битые черепки и стекла", а другая, ей в отместку "подбрасывала колорадских жуков", собранных на своей картошке. Ещё полчаса пришлось им растолковывать: черепки при весенней вспашке (огороды на одной полосе) и жуки, как только у них появятся крылья, вернутся обратно.
С большим трудом Николай Фёдорович выпроводил бабулек и начал собираться на отчетно-выборное колхозное собрание, куда его пригласили, как тут же возник новый посетитель. Бывший ветеринар Евсиков.
Когда-то это был кареглазый красавец с вьющимися волосами, добрым, отзывчивым сердцем и очень коммуникабельным характером. В своё время Евсиков с отличием закончил сельхозинститут, был направлен в село и назначен заведующим ветеринарной лечебницы. Здесь женился. Вырастил двоих детей. Стал прекрасным специалистом. Его знали далеко за пределами района. Он по-настоящему любил свою работу. Говорят, даже написал диссертацию…
Когда в селе начались преобразования, ветлечебницу, вместе с сортоиспытательным участком, ликвидировали в числе первых. Оставшись без работы, Евсиков категорически не захотел менять дело, которому отдал лучшие годы своей жизни. Попробовал вести частную практику. Но это было не то. Не было размаха, (количество скота сократилось в несколько раз). Не было нужных лекарств и вакцины… Не было помощи сверху, районных и областных семинаров по обмену опытом… Много чего не было. Все проблемы, с которыми он сталкивался, приходилось решать в одиночку, практически без средств. Заработать деньги, обслуживая полунищее население, было так же нереально, как сделать бизнес на продаже коньков и лыж в Арабских Эмиратах. Одним словом, способности его оказались не востребованы. И он начал пить… Односельчане по-прежнему приглашали его на личное подворье. Он лечил домашний скот, птицу, животных. Но расплачивались с ним чаще всего самогоном. А это только усугубляло болезнь.