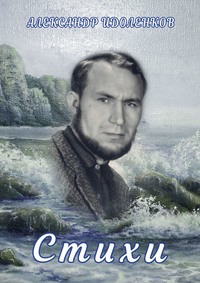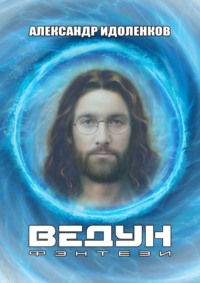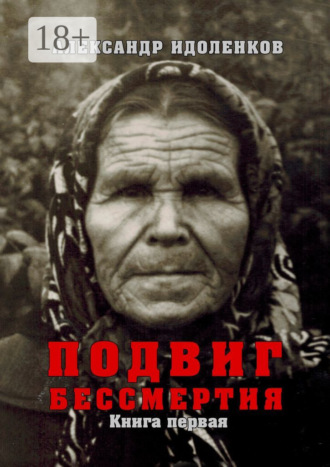
Полная версия
Подвиг бессмертия. Книга первая. Откровение
Но несмотря на это, битва неграмотных с неграмотностью вышла один на один на поле брани. Некоторые из пролетариев, не обнаружив в себе задатков математических или гуманитарных склонностей, покидали ряды первопроходцев, унося в своей просвещённой головушке знание единственной буквы «О», и то только потому, что она по своей форме кругленькая и легко врезалась в их окрылённый мозг.
Другие, более одарённые, научились ставить свою подпись печатными буквами, наподобие каракулей, пристроив к концу загогулину, по настоянию учителя, в виде жирного крючка. На этом своё образование они посчитали полностью завершённым и основательным.
Только единицам из всей этой неграмотной когорты, подлинным ленинцам, устремлённым строителям коммунизма, готовым отдать свои жизни за светлое будущее всего трудового человечества, удалось за короткое время научиться писать и читать по слогам. Это было на грани триумфа! Считалось такое достижение в овладении политграмоты пролетариатом верхом возможностей.
А вот дети сумели обойти своих родителей в силу того, что учёба позволяла им отлынивать от тяжёлых работ по хозяйству. Кроме этого в школе, по сути, намного интереснее проводить время со своими сверстниками за партой, познавая многоликий и загадочный мир, переполненный тайнами, нежели быть дома и ковыряться в земле и навозе. Особенно если эти полновесные знания даёт такой учитель, как Степан, имеющий в своём багаже трёхклассное образование и запас фундаментальных знаний, полученных самостоятельно из различных источников старых газет и проспектов рекламного характера.
В усадьбе бывшего помещика Житкова в дневное время суток функционировала начальная школа, а по вечерам открывали избу-читальню в его просторной библиотеке. Всем этим – и школой, и избой-читальней – заведовал полновластный хозяин Степан. По праву учителя, а значит, и заведующим школой, в котором и находилась эта самая изба-читальня. Кроме того, не нашлось ни одного такого дурака, который согласился бы возиться бесплатно с этим безграмотным старичьём. Степан же в силу какой-то одному ему известной выгоды взвалил на свои плечи этот груз.
Изба-читальня явилась центром общения всех слоёв крестьянского общества. Завсегдатаями её была активная часть деревенской молодёжи, кроме того, там можно было встретить пожилых крестьян и даже стариков, которые передвигались с клюками, но всё-таки, перекрестившись, воодушевлялись идеями марксизма-ленинизма и с горячим одобрением поддерживали создание пролетарского интернационализма, не хотели отставать от прогрессивной молодёжи. Правда, значительно позже, узнав подлинный смысл значения этого воззвания, категорически отвергали и напрочь отреклись, так как самим нечего было жрать. Такое было удивительное время. Боже мой, к великому сожалению, оно безвозвратно ушло в далёкое прошлое, и его уже никогда не вернуть, так же, как и тех героических людей, заложивших основы социалистического государства…
Среди печатной стрекотни – политической пропаганды большевиков, оболванивающей простой неграмотный народ, – можно было в некоторых статьях узнать новости и сравнить с происходящим в мире, что и привлекало народ сюда. Помимо всего прочего, полученные знания разжигали полемику в среде просвещённых мужиков относительно намечаемых планов ленинских единомышленников.
Степан сам лично читал запоздалые газеты недельной давности и разъяснял непонятные моменты в этой невразумительной чехарде нагромождений политической лжи и искажённой информации на злобу дня, проистекающей в ожесточённой борьбе новой и старой формации.
Так что постепенно авторитет среди сельчан у Степана набирал силу, возрастал и креп ото дня на день. Несмотря на свою юность, данный статус нужно было постоянно поддерживать в этом открытом, совершенно прозрачном обществе деревни с оглядкой на строгость своих действий и поступков во всех сферах своей работы и жизнедеятельности.
Критическое отношение к образу своей жизни позволяло Степану запросто поддерживать знакомство с людьми на равных. Никаких страхов осуждения со стороны людей, общающихся с ним, у него не было.
По этому поводу ему не приходилось беспокоиться, так как вся жизни его проистекала на виду всей общины и не выделяла ни его, ни его родных, ничем порочащих их честь и достоинство. Его трудолюбие было непринуждённо-естественным и раскованным, поэтому и плоды зрели здоровыми, без подозрений на фальшь. Он жил своей работой и мчался туда, как на праздник, позабыв обо всём на свете.
Семья Степана за последнее время сократилась до четырёх человек. Все братья и сёстры обзавелись своими семьями и отделились, ушли, как говорится, на собственные хлеба. Предпоследний сын Анисима – Данилка – собирался этой осенью тоже жениться; а следовательно, Стёпке поневоле приходилось наследовать гнилую хату и престарелых родителей придачей к ней.
Степан крепко задумался, и, вполне определённо, было над чем. Как это так выходило? Он, можно сказать, интеллигент деревенского масштаба, а хата его выглядит хуже всех в деревне. После всего этого о каком деловом уважении может заходить речь по любому вопросу, если ты, такой уважаемый человек, можно сказать, просветитель, интеллигент, даже свой быт не можешь устроить. Дело принимало принципиально критический характер.
Переговорив с отцом и используя деньги, заработанные на учительском труде, и прибавив к этому незначительные сбережения от продажи продукции сельского хозяйства, Стёпка решается на строительство нового дома и немедленно приступает к претворению в жизнь этой идеи.
Совмещать работу и такое грандиозное строительство очень трудно, но многочисленные родственники и постоянные завсегдатаи избы-читальни в знак ответной благодарности за его внимание к ним помогли ему в силу своих возможностей. К весне остов нового дома уже возвышался рядом со старой покосившейся хатой, распространяя запах сосновой смолы от свежеотёсанных брёвен. Идеи новой жизни в стране влекли к лучшему, просветляли сознание, обогащая душу. Эта победа над бытом закалила его самосознание и веру в способность преодолевать трудности в будущем. «Построить новый дом, – всё время повторял старый Анисим, – это тебе не шапку снять!» Справившись с этой задачей, Степан понял, что жизнь и свои способности нужно оценивать по сделанному тобой, твоими руками и твоим талантом и умом. Он не хотел усомнится в этом, так как всё это лежало на поверхности и много ума не требовало.
Брат Даниил, как и планировалось им, женился на единственной дочери зажиточного мужика из деревни Юрово, получив за жену хорошее приданое, сняв таким образом все свои заботы, одним махом, о своём быте и достатке.
– Делай чудеса своими руками и головой, не надейся на соседа и его молодую жену, – сказал как-то Данилка своему младшему брату Степану. – Пока будешь выкарабкиваться из нищеты, и любовь и желание жить так осточертеют, что и свет не мил станет. Если хочешь жить как человек – живи! Ищи пути к этому настойчиво, с остервенением, денно и нощно!
– Я не стану вмешиваться в твои дела, но, по-моему, один плохой поступок – прощай репутация.
– Знаешь что, Стёпа, умей свои поступки, даже непристойные, представить людям в правильном и выгодном для тебя свете – никто не поймёт твоих мыслей, поверь мне.
– А как же совесть?
– Совесть? Ха-ха-ха! Совесть, брат, это подливка, под которую подают тебе всякую гадость! И потом, свою невесту я люблю, несмотря на её внешность, ты же не знаешь глубины её души. А красота её внутреннего мира – это самое главное для меня. Вообще, для каждого человека судьба преподносит то, чего он хочет. Запомни, парень, это на всю свою жизнь. Смотрю я на тебя, брат, ты считаешь себя умником, а того не поймёшь, что я могу обидеться на тебя. Ты нанёс мне сейчас такое оскорбление, можно сказать, плюнул в душу. Мне это трудно будет забыть.
Он отвернулся от Степана и ушёл к своему новому строящему дому. С тех самых пор их отношения как-то разладились. Данилка отстранился от родственников, стал неразговорчивым, погрузился в себя. Все объясняли это медовым месяцем.
– Что-то его медовый месяц слишком затянулся.
– А может, бочку не с той стороны откупорил.
– Это как?
– Очень просто, если налить полную бочку дерьма, а сверху влить ложку мёда, что является медовым месяцем. Некоторым повезёт, открыв бочку, где находится мёд, они немного порадуются жизни. Другие же открывают бочку с обратной стороны, там сразу дерьмо, никакой тебе радости.
– Влип Даниил, как муха в мёд.
Невеста его, действительно, была маленького росточка, невзрачненькая и, судя по всему, большая скряга. Так всем показалось при первоначальном, так сказать, поверхностном знакомстве. Это только так казалось на первый взгляд. И внешность её и поступки оставляли приятное впечатление при более длительном общении и более глубоком проникновении в её внутренний мир.
Её деловитость и хозяйственность проявлялась во всём: она, например, даже коровий и конский помёт собирала голыми руками в плетуху из ивовых прутьев на лугу напротив своего дома и высыпала в тощую песчаную почву, тщательно перекапывая всё вместе с землёй в своём молодом саду.
Это удивляло всех соседей и вгоняло в недоумение; люди не знали, как к этому относиться, с осуждением или с доброжелательностью. Но по тому, как уверенно богател Данила, как буйно разрастался его молодой сад, пересуды прекратились, превращаясь в примерные похвалы. И всё это благодаря знаниям и умению его жены – чупочки, так почему-то с любовью обзывал её Данилка. Её пример быстро распространялся между соседями, и она постепенно становилась уважаемой и даже привлекательной женщиной.
Чувствуя, как был неправ Степан по отношению к своему брату Даниилу, при очередной встрече он хотел попросить у него прощение. Но всякий раз, боязнь усугубить тот разговор, в котором он якобы осуждал его за женитьбу на богатой и не любимой, останавливала его порыв. Так эта история вроде и забылась.
Каждый в деревне выживал, как мог, приспосабливаясь к местным условиям, но главным критерием в этом оставался упорный личный и утомительный каждодневный труд и умение организовать свою многочисленную семью трудиться. Жившие на земле, ею, матушкой, и кормились, не сытно, правда, но с голоду не умирали. А некоторые даже мясо поёдывали по выходным – то курицу заколют, то уточку или гусака, а осенью даже поросёнка, пудов этак на шесть—семь к зиме припасут, а иные баранчика или самого козлика съедают без всякого якого. Кто на что горазд от своего труда, старания, умения и знания.
К этому времени красные под руководством Фрунзе разгромили белую армию Врангеля и освободили Крым. 17 ноября 1920 года был взят последний оплот белогвардейцев – город Ялта. Этот день считается завершением Гражданской войны в России.
Событие это, хотя и историческое, но в деревне оно было воспринято не помпезно. Во-первых, из жителей Сдесловки никто в крымских сражениях не участвовал, поэтому ждать неприятностей не приходилось. Мир, который воцарился на Руси, предвещал, разумеется, людям послабления в поборах, да и безопасность в обозримом будущем для призывников, да и всего трудоспособного населения, как-никак, гарантировалась. А так жизнь как шла тихо-мирно, так и продолжала идти, ни шатко ни валко. Каждый знал своё место и имел свои заботы и пристрастия.
Степан был постоянно занят работой в школе и вдобавок пропадал по вечерам в избе-читальне. Молодой, сил хоть отбавляй, да и природа-матушка не обидела парня в этом. Занятия в школе ему нравились, хотя ведение домашнего хозяйства отрывало его от просветительских дел очень сильно и мешало сосредоточить свои помыслы в этом поприще.
Как-то ранней весной в разгар занятий к школе подъехал покрытый брезентовым тентом легковой автомобиль. Вся внешняя облицовка транспорта была облеплена грязью настолько, что через протёртый, видимо, водителем узкий просвет лобового стекла невозможно было увидеть приехавших. Дорог почему-то и тогда не было. Как говорил один из наших общих знакомых, потерявших здесь свою армию, в России есть только направления.
Весенняя распутица расквасила землю, и было даже удивительно, каким чудом им удалось добраться сюда? Возможно, от деревни до деревни их автомобиль волоком доставляли впрягаемые в неё волы.
Дверь автомобиля с трудом и угрожающим скрипом медленно открылась, и на волю вылезла измученная женщина и коренастый мужчина в форменном морском бушлате с бескозыркой на голове. На ленточке бескозырки с трудом читалось «Решительный».
Степан встретил их на крыльце и представился:
– Учитель начальных классов, Долин Степан Анисимович.
– Заведующий Трубчевским райкультпросветом Кацуба Григорий Сидорович.
С широкой добродушной улыбкой на лице он протянул короткопалую руку с небрежно выколотым на ней якорем на фоне аляповатого сердца и крепко пожал мозолистую сильную руку Степана. Почувствовав силу пожатия, с удивлением повёл подбородком, но ничего не сказал.
– А это обещанная вам учительница. Герой Гражданской войны, участница освобождения Крыма от белогвардейцев и получившая там же боевое ранение – Янина Самойловна Пивоварова. Правда, работать она у вас будет недолго. Ей нужна разрядка после всех её передряг. Кроме того, учителем она не работала никогда. Поднаберётся опыта у вас, и тогда мы перебросим её в город.
На вид ей можно было дать лет двадцать шесть – двадцать семь. Одета она была в форменную одежду красноармейца с будёновкой на стриженой голове. Левый рукав гимнастёрки был пуст и аккуратно подоткнут под поясной ремень.
С правой стороны на узком ремешке через плечо свисал массивный маузер в деревянной кобуре.
Степа всё время знакомства ловил себя на мысли, что это оружие приковывает к себе его внимание больше, чем его хозяйка. И зачем учителю маузер? Странно всё это как-то.
После осмотра школы Степан показал гостям свободную барскую спальню для приезжей гостьи на втором этаже, рядом с учительской комнатой. Вскоре шофёр принёс багаж Янины Самойловны, и она стала устраиваться.
Степан, увидев знак Григория Сидоровича, покинул комнату. Выйдя на улицу, Кацуба доверительно положил руку на плечо молодому учителю и пристально посмотрел ему прямо в глаза, заговорщицким голосом спросил:
– Ну как, Степан Анисимович… – здесь он в раздумье на мгновение остановился и, как бы собравшись с мыслями, решительно продолжил, – контра вас не беспокоит?
Степан от неожиданности даже растерялся.
– Какая контра, здесь всё на виду, а главное, против кого? Здесь даже власти-то никакой нет, откуда бы ей взяться этой контре? Разве от болотной сырости?
– Э, браток, не скажи! Вот как раз в болотах-то и заводится всякая мразь! Смотрю, молодой человек, я на вас, революционную бдительность, так сказать, чутьё пролетарское потеряли. Комсомолию почему до сих пор не организовали?
– Некому у нас её организовывать, ни одного комсомольца пока не завелось.
– Ну, теперь будет, кому этим делом заняться, я специально привёз вам сюда товарища Пивоварову. Она боевой соратник, комсомолка, думаю, вместе с ней с этой задачей вы справитесь в ближайшее же время.
Ночью немного подморозило, и ранним утром, затемно, воспользовавшись благоприятными погодными условиями, заведующий культпросветом с водителем укатили к себе в город. Расстояние в двадцать пять километров до Трубчевска, по всей видимости, они преодолели без особых помех.
На прощанье, отойдя в сторону, Кацуба предупредил Степана:
– Ты вот что, браток, Янина Самойловна назначена заведующей школой. Она потеряла мужа на Перекопе, лишилась здоровья, поэтому поддержи её в трудный час. Не оставляй её одну наедине с собой. Она страдает и может в такой момент лишнего выпить. Понимаешь меня?
– Понимаю, – добродушно ответил Степан, не придав последним словам Кацубы особого значения.
– Так я, браток, надеюсь на твою смышлёность.
В тот же день Степан Анисимович представил первоклассникам их новую учительницу Янину Самойловну. Так пожелала она сама, делая упор на то, что опыта у неё никакого нет и с первоклассниками ей будет легче справиться.
В классах учились дети-переростки – восьми, десяти лет. На следующий день Степан и Янина договорились отменить занятия и сходить с учащимися в лес за саженцами молоденьких берёз, чтобы озеленить территорию школы.
Прошло несколько дней, и Степан стал замечать, что Янина Самойловна приходит на занятия слегка в нетрезвом состоянии. Но как сделать замечание своему непосредственному начальнику? Авторитет школы рушился на глазах. Степан после длительных размышлений договорился с Яниной Самойловной о том, чтобы она выступила перед крестьянами и рассказала им о своих героических сражениях в период Крымской кампании.
Она восприняла это с пониманием и уже в ближайшее воскресенье, ближе к вечеру, в избе-читальне сделала обширный доклад на эту животрепещущую тему. Людей собралось очень много. Зал был переполнен. Всем хотелось услышать живой рассказ свидетеля и участника этого исторического события, завершившего собой целую эпоху Гражданской войны в России.
Степан Анисимович сидел и слушал, затаив дыхание. Жесточайшие и в то же время захватывающие баталии величественной драмы гибели русского народа с обеих сторон. Он не понимал, как произошла эта кровавая резня между братьями. Ладно обозлённые неграмотные мужики отстаивали свои права на достойную жизнь. Но ведь с другой-то стороны просвещённые люди, цвет нации, неужели не пришло им в голову мысль договориться. Сам он не мог осмыслить этой драмы, унёсшей миллионы людей.
«Нужно учиться», – подумалось ему тогда.
Посреди деревни в старом деревянном доме проживал дед Музольков Платон Ермолаевич со своей дородной старухой, привезённой им в молодости из города Трубчевска. Говорили сведущие люди, она была единственной дочерью мелкого купца, типа барахольщика. Кроме незначительного приданого типа швейной машинки и самовара, якобы даже изъяснялась, правда, не очень шибко, знала несколько реплик на французском языке и разбиралась, по слухам «доброжелателей», в тонкостях городских мод. Проверить этого никто не мог, так или иначе ни один мужик не понимал ни слова по-заграничному, так же, как ни одна деревенская баба не шила модных платьев. Эти умения так и не принесли ни одной копейки в дом Музолька.
Но в практической жизни после женитьбы молодому Музольку пришлось с ней понервничать и здорово попотеть. Складывать руки в безделье он не собирался, и отправлять обратно молодую жену обратно в город тоже не входило в его планы. Поэтому, обдумав свои действия, он приступил к её образованию. Он понял, что влип, как говорится, в дерьмо по самые уши. Она долго не могла понять своей роли в выращивании овощей и фруктов, в уходе за животными, ведении домашнего хозяйства. Она с трудом отличала разницу между отходами лошади от коровы, козы от курицы, не говоря уже о более значимых разумениях, необходимых для понимания деревенского образа жизни. Он быстро понял сою ошибку, но не пал духом – сильные чувства и потрясения от неожиданных открытий создают настоящего мужчину, тем более Платон помнил, что он какой-никакой, но дворянин. Жизнь создана для любви, остальное – средства для её поддержания…
Дом старика Музолька, так звали его сельчане по-дворовому, стоял на небольшой возвышенности, над овражком, по которому вёснами сбегала с огородов талая вода в крутой изгиб в этом месте речки. Берег, подмытый временем весенними потоками, становился всё круче и круче. Во избежания обвала Музоль в молодости своей посадил на этом возвышенном берегу несколько ив, которые своими корнями укрепили шаткое место изгиба.
За этими ивами находился сад деда. Дикорастущая высоченная груша и две яблони «Антоновки», вот и весь сад. Правда, в углу забора за ивами сидел куст густо разросшейся вишни. Он был так густ и так одичал, потому вишен на нем было очень мало. Воробьи за один налёт не наедались досыта, не говоря уже о набегах ребятни, которым ничего не доставалось, кроме царапин на лицах и руках.
Главное богатство всего этого великолепия было немного выше, где зеленели ровные грядки с огуречными плетями, расползающимися по земле и кукурузным стеблям. Чуть сбоку распластались гирлянды тыкв, над которыми возвышались, склонив свои крупные шапки, подсолнухи. В самом низу огорода в сыром месте восседали штук двадцать, а может и больше, кто их считал… кочаны капусты. Жена его всё же вписалась в деревенский уклад, но не стала рожать много детей, ограничилась одним только сыном, который погиб в Гражданскую войну в Туркестане.
От этого сына у деда Музолька был единственный внук, который с раннего детства подавал надежды в науках. Дед не жалел своих сил, но внука отдал в город для продолжения обучения в старшие классы общеобразовательной школы.
Что послужило тому, что ребёнок так упорно стремился к знаниям, неизвестно, только однажды мальчик, разбирая старые бумаги деда, обнаружил там дарственную грамоту, выданную самим императором всея Руси Александром Первым, жаловавшую его прапрадеду дворянский титул за проявленную доблесть и героизм при Бородинском сражении. В придачу к титулу он получил несколько крепостных крестьян и небольшой надел земли посёлка Козинка вместе с младшим офицерским чином.
Почему эта Козинка не принадлежала им никогда, доподлинно неизвестно, только новый владелец хвастался, что он выиграл у какого-то офицерика эту деревеньку в карты.
Дворянское звание осталось за их родом, хотя никаких привилегий оно никому не давало.
Похоже, этот Музолёнок решил выучиться и доказать своим дворянским происхождением, кто он на самом деле. Только у парня не хватило ума понять – в нынешнее время советская власть больно не жалует дворян…
Для того чтобы учить внука в городе, дед выращивал огурцы, солил их в деревянных бочках и зимой сдавал в городские закусочные, этим и помогал учиться внуку.
Когда Васька Луньков узнал об этом, не откладывая, решил пошутить над дедом. Идея движет действия идиота к намеченной цели, даже самой бессмысленной и жестокой. Ночью он забрался на огород к Музольку и повыдёргивал с корнями из земли почти все плети огуречной рассады. Для чего это он сделал, он и сам не знал. Просто у него была такая бездушная, извращённая натура хулигана и завистника. Его желания главенствовали над его волей. Вероятно, эти дурные похоти превратили сознание Васьки в порок, от которого он уже избавиться самостоятельно, без компетентной посторонней помощи не мог. Больная мать и сестра-инвалид влиять на него не могли, он попросту не обращал на них внимание. Извращенец развлекался тем отвратительным, что взбредало ему в больную голову и что наверняка могло принести страдание человеку
Дед был весьма сильно удручён и расстроен; он сам расследовал это вредительство и пришёл к выводу, что это дело рук Васьки, больше некому, других злодеев в деревне не водилось. Но доказательств у него не было, кроме размера босых отпечатков ног, оставленных негодяем на влажной земле.
Опечаленный горем, дед Музолёк пришёл в школу и, дождавшись перемены, поделился своими соображениями со Степаном о своей беде и своих предположениях. При этом разговоре присутствовала и Янина Самойловна. Поохали, поахали они вместе, но с места это дело так и не сдвинулось до поры до времени. К великому сожалению, в тот год дед остался без заработка, а внук без финансовой поддержки.
Но учительница, выслушав жалобу деда, восприняла это как злостное вредительство трудовому народу. Выпивать она стала после занятий, боялась утратить тот авторитет, приобретённый ею после разговора с крестьянами о своём героическом прошлом, Люди прямо-таки зауважали её и сочувствовали её горькому положению – как боевому инвалиду, так и потере в сражении мужа.
Так вот, Янина узнала, где живёт Васька Луньков, и в хорошем подпитии ближе к вечеру заявилась к нему в дом. Семья собиралась вечерять. На столе стояла в деревянной чашке холодная похлёбка из кислой капусты и чугунок, покрытый снаружи толстым слоем чёрной шубы из сажи, с дымящейся картошкой внутри, сваренной в мундирах.
– Добрый вечер, граждане! – громко произнесла учительница с порога и решительно шагнула к столу. – Так это ты будешь Василием Луньковым?
– Чего тебе надо? Я и есть Васька, – не поднимаясь со стола, дерзко ответил Луньков.
Взбешённая неслыханной дерзостью, Янина выхватила маузер и пальнула один раз в потолок, от чего в комнате запахло порохом и с потолка полетели гнилые щепки.
– Отвечай, контра, зачем вырвал у Музолька на огороде рассаду огурцов? – закричала во весь голос Янина, подступая к побледневшему Лунькову и суя ему в нос дуло маузера.
– Да он… гад… продаёт эти огурцы пролетариям и берёт за них деньги…
– А ты, значит, не гад, не сажаешь огурцы? Вижу, не заготовил даже для себя? – ещё пуще раскипятилась учительница. – Пролетариев, значит, не желаешь кормить?
Васька смешался, по натуре он был робок, но трусом назвать его нельзя. Его дерзость превозмогала страх, и он даже в тёмные ночи выходил во двор справлять нужду. В голове у него почему-то рождались всякие глупости, казавшие ему толковыми мыслями.