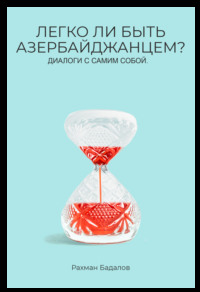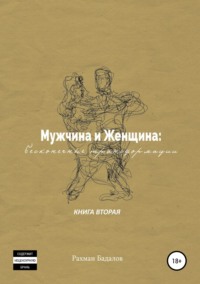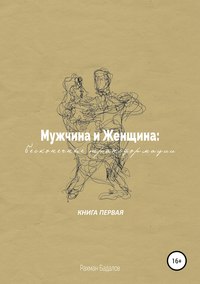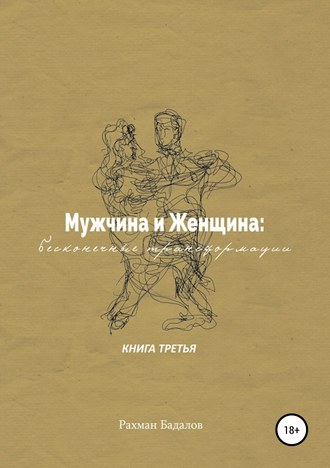 полная версия
полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
По требованию Амины отец Банин приобрёл два автомобиля «Мерседес-бенц». Купить их оказалось не самым сложным, гораздо труднее – научиться ими управлять.
Из Германии в Баку привозили не только автомобили, пианино, прислугу, служащих, но и моду носить усы «а-ля Вильгельм» в подражание Вильгельму II[97], который считался защитником турок и мусульман. Отец Банин, который часто бывал в Германии, также привозил оттуда не только различные подарки, но и по-новому подстриженные и завитые усы «а-ля Вильгельм». Таким он и запечатлён на фотографиях того времени.
На каком языке говорили в семье?
С бабушкой и с прислугой, особенно летом, когда уезжали в загородный дом в апшеронском селении, говорили на азербайджанском языке, другого языка окружающие не знали. С фрёйлейн Анной на немецком языке, другого языка она не знала.
Французскому языку девочек обучала специально приглашённая француженка. На французском языке Банин прочла многие французские романы, да и мачеха привозила из Парижа множество музыкальных записей и книг. Банин впитывала дух французской культуры, готовила себя к будущей парижской жизни.
А был ещё русский язык, старшие знали его хуже, младшие – лучше, но поскольку жили сначала в Российской империи, потом при Советах, без русского языка обойтись было невозможно.
Банин не скрывает, что свой родной язык не любила, почему-то обращалась к нему в состоянии гнева.
Можно ли сказать, что это было некое подобие «смешения французского с нижегородским», если использовать образное выражение из комедии «Горе от ума» русского писателя Александра Грибоедова[98]? В какой-то мере, хотя никто здесь не окал, а на некоторых иностранных языках молодые говорили вполне прилично.
Кто-то может сказать, что Банин воспитывалась, как сегодня принято говорить, в духе «мультикультурализма». Не думаю, что это так, чужое европейское легко вытесняло своё национальное, и о «равновесии культур» говорить не приходится.
Банин иронически, если не презрительно, относилась к миру бабушки, считала, что он безвозвратно ушёл в прошлое. Во время традиционных мусульманских траурных ритуалов, когда приглашались специальные женщины-плакальщицы и все женщины должны были горевать и лить слёзы, Банин и её сёстры с трудом сдерживали смех.
Она не могла примириться и с тем, что все мужчины их круга были купцами, кем ещё мог быть мужчина, говорить они могли только о доходах, о купле-продаже, женщина в лучшем случае должна была быть демонстрацией их богатства, роскошества их жизни.
Совершенно по-другому воспринимала она фрёйлейн Анну и мир, который она олицетворяла. По сравнению с фрёйлейн окружающие казались ей грубыми и чёрствыми, Банин не хотела на них походить и мечтала о том, что вырвется из их мира.
Вместе с тем, не следует делать поспешных выводов. Мечтала о Париже, оказалась в Париже, стала писать на французском языке, окончательно забыла про бабушку и про её мир, стала француженкой, французской писательницей. В какой-то мере это так, но именно «в какой-то мере».
По мере взросления она не могла не понимать, для Парижа, в котором она теперь жила, это были годы «праздника, который всегда с тобой»[99], её парижскому окружению не было дела не только до Баку, но и до всей России. Как бы враждебно не относились к ней на Родине, как бы дружественно не относились к ней в Париже, как бы ни восторгался ею знаменитый русский писатель Иван Бунин[100], к её русскому языку и, следовательно, к ней самой, он относился иронически как к провинциалке.
Не случайно, позже она скажет: «Мой род со своими Али-бабой, Гюльнарами, Лейлами и прочими вышел из Персии, а вовсе не из Ярославля или Царицына. Я не русская и пишу не для одной русской эмиграции. Да, я считаю себя западным человеком и западным читателем, а ещё больше – гражданкой мира».
Не будем обвинять Банин в том, что она говорит о «Персии», для неё это просто метафора того, что не Россия, не Франция, не Запад.
На вопрос «стала ли она гражданкой мира или не стала?» можно ответить, только если знать что означает быть «гражданкой мира». Главное, что она сама считала себя «гражданкой мира».
…Кенизе Мурад: поиски идентичности: «турчанка»…Уже говорил, повторю, о Кенизе Мурад, на русском языке материалов почти нет. Пришлось, хотя бы отчасти заполнить этот пробел статьёй о Кенизе Мурад в Википедии на турецком языке, и 6-ти часовой передачей по Турецкому ТВ «Tarihin Arka Odası» (можно приблизительно перевести как «Неизвестные страницы Истории»), в которой Кенизе Мурад отвечала на вопросы и рассказывала о себе.
Кенизе Мурад внучка Хатидже Султан[101], дочери Османского султана Мурада V[102]. Это был необычный султан, поэтому о нём чуть подробнее.
Мурад V был известен кротостью характера, симпатиям к европейскому просвещению, склонностью к реформам, имел поэтический и музыкальный талант. Сильное влияние на него оказала французская культура.
С первого же дня правления стал обнаруживать явные признаки «психического расстройства»,
…можно допустить, что никакого психического расстройства не было, просто оказался неадекватным своему сану времени, обстоятельствам жизни, ведь не станем же с высоты XXI века считать меланхолию или сентиментальность «психическим расстройством»…
которые можно объяснить и разными излишествами, злоупотреблением спиртным, и несоответствием между мягкой натурой султана и бесконечными заговорами, которые плелись во дворце. Мурада V лечил специально выписанный из Вены психиатр, но вылечить его так и не удалось, возможно, и по той причине, что изменить обстоятельства жизни Мурада V психиатр был не в состоянии. Не стоит удивляться, что через 93 дня после восшествия на престол, Мурад V был низложен.
О Хатидже Султан, дочери султана Мурада V, Кенизе Мурад написала роман под названием «Из дворца в изгнание». Роман написан на французском языке, переведён на 34 языка, последним оказался турецкий язык (насколько могу судить, на русский язык роман не переведён). Роман получил широкую известность, только во Франции было продано 1200000 экземпляров (!).
Исторические обстоятельства предопределили перипетии жизни Хатидже Султан.
Во-первых, она родилась и воспитывалась во «дворце». Если представить себе, что в султанском гареме могло одновременно проживать от 700 до 1200 женщин, становится понятно, что это целый мир со своей иерархией, нормами поведения, борьбой за престиж, и многим другим.
Во-вторых, дочь низвергнутого султана, арест в самом дворце, полная зависимость от правящего султана (как оказалось последнего правящего султана Турции).
В-третьих, в период республиканской Турции, изгнание из страны всех отпрысков султанов.
Хатидже Султан и умерла в изгнание, в Бейруте в 1938 году.
Дочь Хатидже Султан от второго брака Сельма Рауф Ханым Султан[103] и стала матерью Кенизе Мурад. Отцом её оказался индийский раджа. Таким образом, формально Кенизе Мурад можно считать индианкой, по крайней мере, полуиндианкой, полутурчанкой.
Мать Кенизе Мурад умерла через несколько месяцев после рождения дочери (почти как мать Банин). Слуга матери (этнический албанец) вывез девочку сначала в Ливан, затем в Индию, наконец, в Париж. Когда немцы взяли Париж, слуга с девочкой нашли приют в Швейцарском посольстве, откуда её, после того как она подросла, передали во французский монастырь. После смерти слуги её удочерила и вырастила шведская семья.
Ей уже было 20 лет, она училась психологии в Сорбонне, когда впервые узнала о своём происхождении. Через год она поехала в Индию, нашла своего отца, который оказался индийским раджей, но решила в Индии не оставаться и вернулась в Париж.
После Сорбонны Кенизе Мурад стала международной журналисткой, прежде всего потому, что ей было интересно, что происходило в разных странах мира, особенно в горячих его точках. Её особенно привлекало то, что происходило в странах Ближнего и Среднего Востока, в Ливане, в Пакистане, в Индии, в Турции – она чувствовала своё родство с этими странами. Какое-то время она провела в лагерях беженцев, много писала об израильско-палестинском конфликте.
Она была в Пакистане в тот день, когда на Беназир Бхутто[104] было совершено покушение. У неё с Беназир были доверительные отношения, они встретились днём, договорились о вечерней встрече, но Беназир погибла в результате террористического акта.
Когда у Кенизе спрашивают, чувствует ли она себя принцессой, хотела бы жить так, как подобает правнучке султана, она отвечает отрицательно, ей больше по душе жизнь журналистки, сопричастной ко всему, что происходит в мире.
В Турции она оказалась поздно, уже известной журналисткой. Пошла во дворец Долмабахче[105], в котором жили османские султаны. Как сама признаётся, хотела прикоснуться до некоторых предметов, ведь ими пользовались её предки, но смотритель не разрешил. Потом она услышала, что рассказывает экскурсовод о психическом расстройстве Мурад V, не выдержала, вмешалась, не согласилась, экскурсовод удивился, откуда она это знает, пришлось признаться, что она его правнучка, носит его имя, хотя в первый раз приехала в Турцию. Её окружили, стали целовать руки, она смутилась, не привыкла к такому обращению, но почувствовала, она у себя дома, хотя в этом «доме» ей уже не позволяют дотрагиваться до предметов, которые стали экспонатами.
В одном из интервью её спросили:
«Кем вы себя чувствуете? Вы частично турчанка, частично индианка, частично шведка. Ваша идентичность очень пёстрая».
Кенизе Мурад ответила:
«Конечно по образованию и по языку я француженка. Но я не чувствую себя француженкой. Я из Среднего Востока. Индия это что-то другое. Я не чувствую себя индианкой, может быть по той причине, что не люблю Индию. В отличие от Турции, в Индии я чувствую себя чужой. В большей степени я турчанка, я из Турции»
Ведущий многочасовой передачи, о которой упоминал выше, спрашивал Кенизе Мурад сожалеет ли она о том, что не знает турецкий язык. Он был достаточно корректен, но задал этот вопрос, поскольку понимал, что он обязательно возникнет у телевизионной аудитории.
Кенизе Мурад отвечала спокойно и откровенно. Так уже сложилась её жизнь, она поздно узнала о себе, в первый раз приехала в Турцию уже взрослой, и сегодня ни о чём не сожалеет.
Со своей стороны добавлю, что в свои семьдесят лет (сужу по времени телевизионной передачи) Кенизе Мурад достаточно миловидна и обаятельна, держится с достоинством, часто улыбается. Она подчёркивает, что здесь она у себя дома, хотя живёт в другой стране и говорит на другом языке.
Что до идентичности, повторю, главное не происхождение, не «кровь», а то, как сам человек себя воспринимает.
Кенизе Мурад могла бы назвать себя и индианкой, и француженкой, и шведкой.
Назвала турчанкой, вот и весь ответ.
…«французский дух»Банин называют «азербайджанская писательница, пишущая на французском», «французская писательница азербайджанского происхождения», и т. п. Какое из этих определений более точное? Всё зависит от смыслового контекста.
Если говорить о «Кавказских днях», то, на мой взгляд, в них есть то, что назвал бы французским духом. Мне трудно внятно объяснить, что я понимаю под этим «духом». Может быть то, что в книге Банин происходящее между мужчиной и женщиной отодвигает на второй план любые исторические или социальные потрясения. И когда это «между» описывается с некоторым озорством и лукавством, избегая каких-либо назиданий и морализирования. А в остальном надеюсь на воображение читателей, по крайней мере, тех из них, которые наделены таким воображением.
Теперь более конкретно.
Бабушка ворчит, непонятный новый век, главное для неё молитва, чадра, «чистые» и «нечистые». Банин иронизирует, когда-то муж бабушки бросил её и ушёл к русской женщине. Вот и объяснение рьяной религиозности. Богатство же бабушка принимает как должное, классовой солидарностью не страдает…
Пришли русские, большевики. Отец Банин, бывший депутат, бывший министр, в тюрьме. Умм эль-Бану влюбляется в большевика, работает в комиссии по описи, составляя список имущества окружающих домов, носит значок с изображением Ленина, притворяется, что её заставили.
Дальше, больше. Ходит в гости к этому большевику, ведёт себя с ними достаточно вольно, недотрогой назвать её нельзя. Решает с ним уехать в Россию, стать женой комиссара. Ей 15, ему 40, он русский, комиссар, классовый враг, но какое всё это имеет значение, если комиссар в её воображении похож на Андрея Болконского из «Войны и мира»[106].
Откровенно признаётся: «улетучилась куда-то наука добропорядочности, забылись традиции. Моё счастье пахло чёрной гимнастёркой, табаком и кожей». А это только возбуждает любовное чувство.
В последний момент не решилась уехать, послала сестру объясняться, та вместо неё уехала с комиссаром, хотя сестра была уже замужем. Через пару лет сестра возвратилась. Банин сначала обиделась, предательница, но сестра её быстренько успокоила, ты же сама отказалась, так что меня обвинять не следует, к тому же твой «Болконский» скучен, уныл, в постели беспомощен, она давно его бросила, всё это время была с другим. С мужем быстренько примирилась, он глухой, в прямом и переносном смыслах, придумала для него какую-то историю, муж сначала возмущался, шумел, потом поверил, затих. Банин даже позавидовала, как умело врёт, какой актёрский талант пропадает.
У бабушки своя логика: «девочек, как только подросли (15? 14? 13?) следует поскорее выдавать замуж… европейское житьё-бытьё ни к чему хорошему не приведёт, один срам». Что произойдёт после брака, никого не волнует, главное традиции и внешняя благопристойность.
Ещё один эпизод.
Бабушка возмущённо говорит:
«Значит Фарида не хочет идти замуж за Акпера. Ему, мол, 60 лет (Фариде – 16). Вот оно, влияние неверных! Боже, что же с нами будет? К чему мы идём?
– Боже! – хором подхватывают женщины, которые её слушают.
– К чему мы идём? Бабушка сделала неопределённый жест, взмахнув ладонью над головой. Перстни на её пухлых пальцах сверкнули в лучах солнца:
– Всё во власти Аллаха! Десятиголосый хор женщин разом подхватил: «Всё во власти Аллаха!».
Вот потрет ещё одной «традиционной» азербайджанской женщины в изображении Банин:
«Баладжаханым (буквально «маленькая ханым»), считалась легендарной личностью. Она лупила своих дочек метлой. Бывало, и мужу от неё доставалось. Если ей кто не нравился, она сбрасывала ему на голову мусор с балкона. Свирепого нрава женщина! Говорили, что в кармане, в складках своих юбок, она носит револьвер, чтоб походить на мужчин. Сплетники поговаривали, что болезнь её мужа – результат «жениных» ласк. Когда Баладжаханым наказывала дочек, она запирала их в комнате на месяц. Бедняжки и носа не могли высунуть из своего «карцера»!».
Чтобы приблизиться к этому неуловимому французскому духу, задам себе и читателям такой вопрос. Что если Банин оказалась бы не во Франции, а скажем в Англии, в России, или в Турции. Это были бы те же самые мемуары, или другие. Конечно, бабушка осталась бы бабушкой, отец – отцом, мачеха – мачехой, сестра – сестрой, но разве это не была бы другая книга, не столько о другом, сколько по-другому.
…фантазировать, так фантазировать, на мой взгляд Кенизе Мурад осталась бы такой же окажись она в Париже, или в Берлине, или в Стокгольме…
Но может быть следует говорить не о «французском духе», а о бесконечных трансформациях между мужчиной и женщиной.
Может быть, времена меняются, а «бесконечные трансформации» остаются.
…Банин и КенизеВновь вернёмся к тому, что выше назвал «синхрон».
Понимаю, разные времена, разные исторические обстоятельства, разные судьбы, разные темпераменты, разные… и от каждого «разные» свои развилки, и так до бесконечности.
И ещё одно «разное» в контексте сквозной темы настоящей книги.
Банин много пишет о том, что так или иначе связано с темой «любви», «любовного», о том, что в этой связи случалось с другими, что случалось с ней, насколько в этой теме сталкивались старое и новое, традиционное и современное, западное и восточное.
Кенизе Мурад об этом не пишет, хотя не трудно предположить, что это тема была актуальной для её бабушки, о которой она написала роман.
Мы ничего не знаем о личной жизни Кенизе, только то, что не было у неё семьи, не было детей.
Но, может быть, это и есть разгадка, а всё остальное просто приложение.
Женщины в романах Орхана Памука: заметки на полях…
…от Елены Прекрасной и Юлы Бриннер к РёйеСнова прячусь за «Дневник», ещё уже – за «заметки». Из романов Памука[107] оставляю только два: «Чёрная книга» и «Меня зовут красный». Следовало бы добавить «Снег» (читал) и «Музей невинности» (собираюсь прочесть). Но это уже в следующий раз, если доживу.
Всегда казалось, Юла Уорнер из «Деревушки» Уильяма Фолкнера[108] восходит к древнегреческой Елене Прекрасной[109]. Возможно, не только Юла Уорнер, многие другие женские образы мировой литературы, но Юла Уорнер не в последнюю очередь.
О Елене Прекрасной есть отдельный текст, к нему и отсылаю читателей. Напомню только одну фразу из этого текста: «Елена Прекрасная рождена из мужских фобий и мужского восторга».
Что до Юлы Уорнер, то, как пишет Фолкнер, она вызывала желание у всех мужчин в возрасте от девяти до девяносто лет. К такой характеристике можно ничего не добавлять, каждый по-своему может вообразить её внешность, походку взгляд. Но по иронии судьбы Юла Уорнер достаётся мужчине, который импотент.
После «Чёрной книги», в моём воображении к Елене Прекрасной и Юле Уорнер прибавилась Рёйя[110].
В отношении всех трёх (а этот ряд бесконечен) есть вопросы, на которые нет ответа: что особенного в этих женщинах, почему мы ими восторгаемся, как переплетаются наш восторг и наши фобии, как этим женщинам удаётся властвовать над мужчиной, вокруг них кипят неподдельные страсти, они даже не волнуются, принимают как должное, как у них это получается.
Согласился бы со мной Памук или не согласился, особого значения не имеет. Если есть «моя Древняя Греция», «мой тендер», то может быть и «мой Орхан Памук».
…два цвета, Чёрный и КрасныйОба романа пропитаны, пронизаны цветом.
В первом случае, «Чёрная Книга», Чёрным (Kara).
Во втором случае, «Его зовут Красный», Красным (Kırmızı).
Все оттенки «чёрного» в нашей жизни перечислить невозможно,
…надо ли говорить, что «Кара» и «Черный» далеко не одно и то же, и «Чёрный сад» (Karabag) и «Чёрное море» (Qara Deniz) это не просто чернота, чёрный цвет…
только и остаётся иронически-трагическое признание в том, что лучший способ раскрыть тайну, попросить наборщика закрасить страницы книги чёрным цветом.
Чёрные страницы «Чёрной книги» становятся в этом случае своеобразным аналогом «Чёрного квадрата» российского художника Казимира Малевича[111], который, то ли открыл нам тайну, то ли заманил в чёрный цвет как в «чёрную дыру», из которой вырваться невозможно.
Для объяснения Красного писателем придуман более изощрённый метод. Представьте себе, что вы должны объяснить слепому, что такое Красный. Придётся сказать приблизительно следующее: если прикоснуться к нему кончиком пальца, будет ощущение железа или меди, запах у него резкий, как у коня, если сравнить этот запах с цветком, то он может быть и красной розой, и обыкновенной ромашкой. И ещё должны будете добавить, красный цвет может обжечь, он везде, где слишком много человеческих страстей, в таких случаях он приходит сам, всё обагряет, всё закрашивает в красный цвет безо всякого наборщика.
…женщина и трансцендентностьПамук – прекрасный рассказчик, он рассказывает свои истории подробно, тщательно, пряно, цветово, тактильно, погружаешься в детали и не сразу распознаёшь, что он обманщик, что он лукавит. Он ставит нас лицом к лицу с проблемами человеческого бытия, в которых человек барахтается, но из которых больше не в состоянии выбраться, а сам как бы в стороне, парадоксально-ироничный ракурс возникает как бы помимо его воли.
Почему иронический? Потому что это всё мужские потуги – попытка схватить суть того, что лежит вне, вне времени, вне бытовой толщи жизни, то ли на небесах, то ли где-то рядом, но так, что эта суть не видна и не слышна. Мужчины придумали даже специальный термин, как всегда используя латынь, ведь латиняне, те же римляне, в отличие от греков, любили всё схоластическое, лишённое цвета, запаха, тактильности. Назвали – трансцендентность, трансцендентное.
Но настоящему писателю нет дела до трансцендентного, главное для него то, что существует в плотной, бытовой гущи жизни, что рождается из её цвета, запаха, пота, из её больших страстей и, не в меньшей степени, из её мелочных страстишек.
Главное для него предмет, явление, феномен, тайна, которую в пределе придётся закрасить в чёрный цвет, чтобы спрятаться, не высовывать носа, или закрасить в красный цвет, чтобы признаться, с этим страхом справиться не удаётся.
Я говорю о предмете, явлении, феномене, тайне, который и должен описывать настоящий писатель, если у него есть воображение и дар рассказчика, но нет моральных амбиций, неизбежно ведущих к унылой мужской морали.
Я говорю о многом и разном, но, прежде всего, о женщине вообще, о женщине романов Памука в частности.
Отдаю себе отчёт, что кто-то возразит, романы Памука не о женской судьбе. Возможно, так оно есть, но…
…почему-то когда пытаюсь рассказать о своих впечатлениях от романов Памука, начинаю с образов женщин. Хотя немедленно сбиваюсь на мычание и ничего внятного сказать не могу.
…женщина в романе «Чёрная книга»Оба романа Орхана Памука посвящены женщинам.
Первый, «Чёрная книга» – Айлын (на мой вкус очень красивое имя).
Второй, «Его зовут Красный» – Рёйе.
При этом Рёйя, действующее лицо романа «Чёрная книга», т. е. реальный персонаж, или, точнее, реальный персонаж и вымышленный образ одновременно.
Собственно Рёйи в романе нет, есть её поиск, есть её образ в воображении главного персонажа романа, Галипа.
Роман и начнётся с образа Рёйи, спящей уткнувшись в подушку и Галип задумается над тем, можно ли проникнуть в сады памяти женщины, поймёт тщету таких намерений, и не только потому, что в этих садах памяти можно обнаружить нечто скрытое, скрытого может и не быть, но, тем не менее, разобраться в этих садах памяти невозможно.
Чуть позже выяснится, что Рёйя ушла от мужа, оставив ничего не значащую записку.
…про записку мы узнаем, что в ней девятнадцать слов, что она написана зелёной шариковой ручкой, узнаем про то, как, где, каким образом, она была написана, но самого текста записки не будет. Впрочем, что мог бы сказать сам текст, что могли бы сказать сады памяти, то ли ушла, то ли не ушла, то ли ушла насовсем, то ли ещё вернётся, она сама разве знает…
Галипу только и останется, что искать её (в этом смысле роман станет детективом), он и будет везде её искать, не просто искать, вспоминать, находить отсвет этой памяти в окружающем его мире, на улице, в кафе, в домах, где они бывали вместе, память будет подсказывать самое неуловимое, самое преходящее, микромгновения жизни, из которых и соткана совместная жизнь мужчины и женщины, но он так и не вырвется из воспоминаний (детектив перестанет быть детективом).
«У тебя в руках книга, а у меня – газета, но читать её я не мог; я спрашивал: «Если бы я был героем этой книги, ты любила бы меня?» – «Не говори глупостей!»»
…Не будем столь наивными, что придавать значение вопросам Галипа, не меньше женщины он понимает, что говорит «глупости», намеренно говорит «глупости»…
«Глядя на твои плечи, на пятнышко на затылке, где у тебя выпали волосы, на цветной иллюстрированный журнал, который ты листаешь, я старался понять, что заставляет твои ноги болтаться».
…Кажется, мужчина начинает понимать, какая разница между трансцендентным и «говорить глупости», и не будет ничего спрашивать про иллюстрированный журнал и научиться задумываться не над трансцендентным, а над тем, что заставляет болтаться ноги женщины, когда она читает иллюстрированный журнал, но задумываться над такими вопросам и означает «говорить глупости», и радоваться тому, что можно в общении с женщиной «говорить глупости»…
Галип будет продолжать искать Рёйю, но так и не найдёт, попытается войти в неё, но так и не сможет. Только догадается, прозреет, что лучший способ понять, это окончательно заблудиться в садах памяти другого.
А мы так и не узнаем, удастся ли это Галипу или нет…
…женщина в романе «Меня зовут Красный»В романе «Меня зовут Красный» много женщин, но поскольку сам роман притчевый, то и женщины этого романа скорее «притчевые».
Оставлю разговор об образах этих женщин до следующего раза, а сейчас только один эпизод или один сюжетный ход романа.
«Меня зовут Красный» рассказывается от имени героев, животных и вещей. Например, рассказы: «Меня зовут Чёрный», «Я – дерево», «Я – собака», «Я – мёртвый», «Я – шайтан», «Меня зовут Красный».