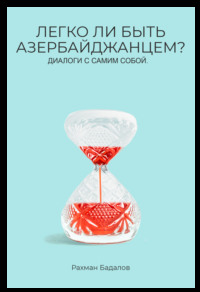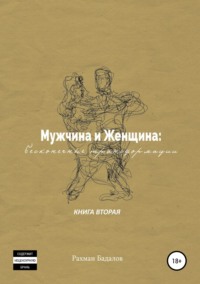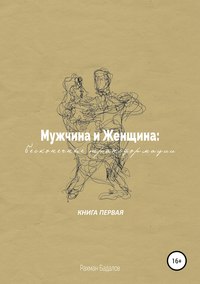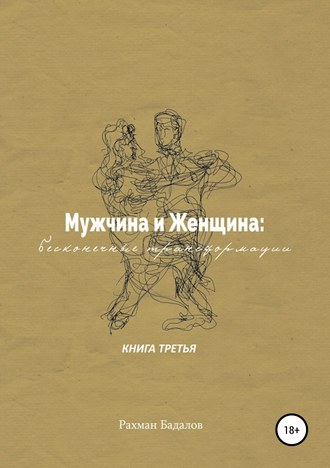 полная версия
полная версияМужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
Сэлинджер написал Уне:
«Ты, стало быть, спишь со стариком-англичанином, который давно имеет проблемы с простатой и принимает порошок из шпанской мушки, чтобы пробудить к жизни свой изношенный причиндал. Не знаю, хохотать до колик или плакать горючими слезами над такой мерзостью».
В другом письме:
«От любви ещё никто не умирал, не надо верить в эти бредни. На нашем не-романе поставлен крест, я всё понял и пережил эту неудачу. Ты не убила меня, ты меня всего лишь состарила. Но не рассчитывай, я тебя не забуду. Ты научила меня всему: благодаря твоей жестокости я знаю, что такое женщины, я вырос в ускоренном темпе, как те цветы, которые фотографируют раз в день, и они вянут на глазах за двадцать секунд стоит только склеить кадры…
Я пишу это, сгорбившись над подушкой, скрючившись, как глубокий старик, на матрасе, кишащем вшами. Спасибо, спасибо, Уна, за твою холодность, которая так закалила меня. Думаю, война завершит начатое тобой. Я желаю тебе долгой и счастливой жизни с твоей окопавшейся в тылу звездой…».
Уна написала в ответ:
«Дорогой Джерри,
твоё последнее письмо отвратительно. Ты так несправедлив, что мне не следовало бы на него отвечать…
Только по одной причине я решила тебе ответить: из-за твоего нынешнего положения. Умоляю тебя на коленях, будь осторожен, не геройствуй и вернись к нам невредимым…
Предпочитаю проигнорировать то, что ты говоришь о Чарли, и отношу эту низкую клевету на счёт твоего разочарования. С тобой неизменно моя дружба, моё восхищение, изрядная доля моих мыслей и моё глубокое уважение. Пиши и останься в живых, это всё, о чём я тебя прошу…
Это моё последнее письмо, но я от всего сердца желаю, чтобы оно принесло тебе только благо, ведь ничего другого я не хотела никогда. Я не стану с тобой ссориться, у меня и не получится, любая гадость прозвучит в моих устах фальшиво. С сожалением ставлю тебя в известность, что просто не способна думать о тебе плохо…».
Легко использовать такой монтаж, Сэлинджер среди разрывающихся снарядов, кругом трупы, непролазная грязь, а Уна в халате, сидит на краю бассейна зеркально-чистой воды в роскошном доме.
Это правда, вряд ли она вышла бы замуж за Чаплина, не будь он столь богат и столь знаменит. Но это только часть правды, только верхушка айсберга. Если судить хотя бы по письмам, Уна была умна, и будучи умной понимала, что была искренней с Сэлинджером, ей не в чем себя упрекнуть, и столь же искренней оказалась с Чаплином, прожив с ним долгую и – поверим – счастливую жизнь.
Хотя, признаюсь в этом треугольнике, для меня самая приторная фигура Чарльз Спенсер Чаплин. Никакого предубеждения против него нет, убеждён, его немое кино на все времена останется вершиной кинематографа. Речь идёт просто о взаимоотношениях трёх, не более того.
Остаётся сказать, что Чарльз Спенсер Чаплин прожил 88 лет и умер в 1977 году.
Сэлинджер Джером Дэвид прожил 90 лет и умер в 2010 году.
Уна О'Нил-Чаплин прожила 66 лет и умерла в 1991 году.
…вечный подросток как абсолютное клише XX века
В 1951 году Сэлинджер издал роман «Над пропастью во ржи». За короткий срок было продано 60 миллионов копий и до сих пор ежегодно реализуется в год порядка 250 тысяч экземпляров этой книги.
В чём тайна этой книги, почему ею зачитывается уже не одно поколение в разных странах мира?
Ф. Бегбедер в романе о Сэлинджере и Уне, о котором говорилось выше, пишет:
«Ещё до войны Сэлинджер вынашивал мысль о маленьком человеке в большом городе, о вечном подростке, растерянном и потерянном, эгоцентричном и прозорливом, бедном и свободном, робко влюблённым и во всём разочарованным, который стал абсолютным клише удела человеческого в западном мире двадцать первого века»
…почему «двадцать первого», а не «двадцатого»? почему «западного» мира, а, к примеру, не японского? но это не меняет сути…
В том же романе Ф. Бегбедер пишет:
«Хотелось бы мне знать, виделся ли Сэлинджер с Уной после войны. Всё моя сентиментальность. Я думаю, что это Уна вдохновила роман, который навсегда запретил нам стареть».
На мой взгляд, в этом вся суть. Пятнадцатилетняя Уна запретила стареть и себе, и ему. Запретила становиться взрослым. Можно было влюбляться, но только с одним условием, не становиться взрослым. Здравый смысл возразит, как это возможно, но какой здравый смысл для подростка.
Если оставаться в границах настоящей книги, то это абсолютное клише юноши и девушки, которые не хотят взрослеть, пугаются этого взросления, будучи юношей и девушкой не хотят, и не собираются становиться мужчиной и женщиной.
Не одно поколение сочувствует герою романа «Над пропастью во ржи», понимает, что этот роман о них, которые не хотят становиться взрослыми.
Сэлинджер придумал героя на все времена, который будет вечно выламываться из ряда Гамлет, Фауст, Растиньяк, Иван Карамазов[130], другие, но будет оттенять этот ряд, придавать ему новый объём, новое стереоскопическое видение. Художественным открытием Сэлинджера стала интонация романа (мы вправе сказать, «музыка романа»), которая исключила необходимость подробных описаний в стиле Бальзака[131] или Диккенса[132].
Приведу самые первые строчки романа, которые, на мой взгляд, говорят сами за себя:
«Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего, захотите узнать, где я родился, как провёл своё дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту дэвид-копперфильдовскую[133] муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если бы я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чёртиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым рождеством».
Запись в дневнике: июль, 2016 год
Ещё до завершения книги, посылал отдельные тексты своим друзьям и коллегам. Не столько для рецензирования, сколько для того, чтобы ощутить обратную связь с окружающим миром. Ведь может случиться, пишешь в уединении, забывая о мире вокруг (это нормально), увлекаешься, переоцениваешь то, что написал и окончательно теряешь голову (это уже не нормально).
Иногда понимаешь, тот или иной текст, не самый точный, не самый внятный, и не удивляешься, что это отмечают и твои «рецензенты». Так случилось с моим текстом про «Отелло» Вильяма Шекспира.
Что же следовало сделать? Или доработать текст или просто выкинуть его в корзину. На первое не хватило терпения и воли, на второе мог бы смело решиться, не отношусь к тем авторам, которые дрожат над каждой своей строкой. Но понял, что без этого текста, точнее без фигуры Отелло, что-то важное в смысловом спектре раздела «Жизнь и искусство: тендерные парадоксы», будет потеряно. Дело в том, что Отелло называю одним из самых «мужчинских мужчин». Это его беда, его проклятье, его непреодолимая судьба. Когда побеждает в нём «мужчинский мужчина», не спасает и его внутреннее благородство.
К этой же категории «мужчинских мужчин» отношу и политика, образ которого незримо присутствует в этой книге. Но в нём нет благородства Отелло, он упивается своей ролью и своими возможностями, не чувствует своей ограниченности и провинциальности. Его невозможно назвать трагическим героем, что говорит не только о масштабе личности (и об этом тоже), но и об уровне амбиций. Если политику удаётся подмять действительность под себя, то нечем гордиться, политик этот просто не дошёл до серьёзного сопротивления действительности, которая могла бы сломать ему шею.
Великая Уловка выдаётся за высокое искусство жизни.
Без Отелло все эти рассуждения, все эти ассоциации, были бы невозможны.
«Матриархат» как вечный символ культуры
Иоганн Якоб Бахофен[134], швейцарский этнограф, в своей работе «Теория материнского права» выдвинул следующие положения:
– у людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения;
– такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить отца, и поэтому происхождение можно было определять лишь по женской линии, как первоначально это и было у всех народов древности;
– вследствие этого женщины как матери, единственно достоверные родители, пользовались высокой степенью уважения, доходившей до полного господства женщин;
– переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исключительно одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди, то есть фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину.
Бахофен по многим параметрам может считаться «учёным», он привлекал к своей работе огромный эмпирический материал, детально анализировал мифы, но этнографы и этнологи обращают внимание на то, что в его работах чувствуется влечение к мистике и символике.
Прав ли Бахофен в отношении «материнского права» и «матриархата» или не прав, существовал ли «матриархат» или не существовал, вопрос для науки остаётся открытым, и можно предположить, что окончательного ответа найдено не будет. Бесспорно другое. Наука, культура будут постоянно обсуждать идеи Бахофена, на это обсуждение будут влиять не только новые эмпирические данные (если они будут), но и степень интереса к тендерной проблематике. Иными словами Бахофен и «матриархат» стали символами, которые продолжают продуцировать различные смысловые контексты.
…Туареги – традиция матриархата?
информация о туарегах…Сначала приведу информацию, которую удалось найти в Интернете, потом короткий комментарий.
«Туареги – один из самых загадочных народов Африки.
Современные кочевники сохранили древнюю культуру и многое в их повседневной жизни кажется нам удивительным. Пожалуй, их главное отличие от всего остального мира – это традиция матриархата. Только здесь девушкам до свадьбы разрешается иметь несколько любовников, а мужчины после достижения совершеннолетия обязаны носить лицевое покрывало.
Туареги – мусульмане по вероисповеданию, однако их религиозные традиции очень оригинальны. Издавна здесь было заведено, что именно мужчина не должен открывать лицо. В день совершеннолетия юноша получает от отца два главных подарка – обоюдоострый меч и специальную лицевую накидку. Без неё нельзя выходить на люди, её же нужно носить и дома, прикрывая лицо даже во время еды и сна. Кроме того, туареги носят особые туники цвета индиго, за это их даже прозвали «синими людьми Сахары». Доподлинно неизвестно для каких целей служит одеяние: по одной из версий – оберегает туарегов от злых духов, по другой (более прагматичной) – защищает от пыли и песка. Интересно, что туареги окрашивают ткань специфическим способом: экономя воду, они не пропитывают её краской, а «вколачивают» её камнями. Со временем краска начинает осыпаться, и кожа туарегов часто имеет синий цвет.
Мораль в отношении девичьего стиля жизни вполне демократична: девушкам разрешается познать нескольких любовников до замужества. Как правило, мужчина может приехать в шатёр возлюбленной, провести с ней ночь, но это отнюдь не гарантия того, что он останется здесь и в следующий вечер. Как правило, девушки выходят замуж в возрасте 20 лет, претенденты на руку и сердце должны упражняться в стихосложении, посылая красавице поэтические строки. Девушки имеют право им ответить, правда, используют они свой уникальный алфавит «тифинаг», усвоенный от матери (мужчины в этом племени используют латинский или арабский алфавит).
В обществе туарегов сложился удивительный строй: мужчины превосходно владеют боевым искусством, они бесстрашные воины и прекрасные торговцы, женщины – хранительницы культурного наследия, именно они обучены грамоте, продолжают фольклорную традицию. Словом, этнос туарегов – яркий пример того, что в социуме равноправие мужчин и женщин – достижимо. Главное – правильно распределить обязанности».
…«матриархат» или свободные женщины туареговПрежде всего, не торопился бы называть общество туарегов «матриархатом», только потому, что в этом обществе нет ярко выраженного «патриархата».
Не стал бы использовать и такие формулировки, как «яркий пример», «равноправие достижимо», «правильно распределить обязанности» и др.
Позволю себе такое допущение, более размытое, избегающее окончательных выводов.
Если в природе возможно разнообразие, то почему оно невозможно в человеческом обществе. Почему не может быть обществ, которые ничего не знают ни про «матриархат», ни про «патриархат», ни про «гендер», ни про «равноправие полов», но счастливо избегают любых крайностей.
А если это так, то мне остаётся задать вопрос и читателям, и самому себе, в духе неразрешимой дилеммы о курице и яйце.
Туареги красивы,
…не исключаю, как и многое другое, мне это только кажется…
потому что у них такие мягкие нравы, или благодаря мягким нравам они так красивы.
И отсюда следующее предположение, можно назвать это моей фантазией.
Туареги красивы и у них такие мягкие нравы, по той причине, что в их обществе сексуально раскрепощены и мужчины, и женщины. Культура закрепила то, что больше отвечало их природе и их физиологии.
И кто знает, может быть эта сексуальная раскрепощённость легко ложится на матрицу мужчин – бесстрашных воинов и умелых торговцев, и женщин – хранительниц…
…так и хочется сказать «хранительниц домашнего очага», но чудо туарегов как раз в том, что они свободны от клише «цивилизованного» мира…
культурного наследия, именно они обучены грамоте, именно они продолжают фольклорные традиции.
Ещё раз повторю, не исключаю, что выдаю желаемое за действительное. Но так приятно думать, что где-то в нашем мире живут такие необычные туареги.
…Аристофан: «Лисистрата»: «… всего страшнее это»
Всегда удивлялся древнегреческим женским образам. Кругом одни мужчины, на площади, в театре, на рынке, даже дома женщины могут жить только в отведённом для них месте, и вдруг целая россыпь поразительных женских образов от Елены до Геры, от Афродиты[135] до Медеи[136], от Антигоны[137] до Федры[138]. И одно из самых больших удивлений комедия «Лисистрата» древнегреческого комедиографа Аристофана[139].
Пишут, что комедия создавалась в условиях Пелопонесской войны, которая ухудшила положение Афин, что женщины более других страдали от тягот войны, что им это надоело. Наверно всё так и было, но «Лисистрата» комедия весёлая и озорная, такое впечатление, что «сексуальную забастовку» женщины придумали, не только для того, чтобы наказать мужчин, но чтобы, ещё в большей степени, самим повеселиться и позабавиться.
Чтобы с нескрываемым лукавством объяснить мужчинам: признаемся, для нас «всего страшнее это», ничего, потерпим, посмотрим, как вы обойдётесь без этого.
Приведу несколько коротких отрывков, которые сами за себя говорят.
«Эллады всей спасенье ныне – в женщинах!За малым стало! Боги! В женщинах!Да, да! В руках у женщин городов судьба» «Но что же сделать можем мы разумногоИ славного, мы, женщины, нарядницы,В шафрановых платочках, привередницыВ оборках кимберийских, в полутуфельках Вот в этом-то и сила и спасениеВ шафрановых платочках, в полутуфелькахВ духах, в румянах и в кисейных платьицах» «Другое что придумай! Приказанье дай —В костёр я рада прыгнуть. Но не это лишь!Всего страшнее это, О Лисистрата!» «О род наш женский, подлый, распролюбленный!Так правду говорят о нас трагедии:Лишь Посейдон нам нужен и челнок его». «Теперь я вижу, Еврипид[140] – мудрейший из поэтов.Ведь он про женщину сказал, что твари нетБесстыдней»И, наконец, последнее:
«О владычица женщин, мы славим тебя! Покажи себя снова царицейНепреклонной и кроткой, искусной, прямой.Величавой, прелестной и мудрой!Колдовством твоим связаны, видишь, стоят предТобой полководцы Эллады!Доверяя тебя, поручая тебе разрешить своё горе и беды!»Вдумайтесь, в театре практически одни мужчины, играют одни мужчины, и они изображают, как стоят перед женщинами (навытяжку?) полководцы Эллады, и просят разрешить их беды.
Может быть, и в жизни древнегреческие женщины притворялись и, спрятавшись в гинекее, управляли древнегреческим обществом.
Может быть, и «Лисистрата» стала одной из причин того, что привычным стало выражение «чудо Древней Греции».
…из статьи в ВВС о морали и сексе у французов
Эту статью написал американский публицист. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но в известной проницательности ему не откажешь.
По его мнению, французы полагают, что в сексе дозволено всё, кроме насилия и посягательства на детей. Всё остальное считается человеческой комедией с её бесконечными изгибами и переливами. Пуританизм считается насилием над человеческой природой. Что ещё хуже, по мнению французов, пуританизм отличается воинственностью и склонностью к публичности. Вместо того чтобы относиться к сексу как к сугубо частному делу, пуритане стремятся вытащить его на авансцену для всеобщего обсуждения и осуждения. Им не терпится заклеймить позором очередного политика-изменщика и подвергнуть его суду общественности.
На самом деле пуританские общества гораздо менее моральны, поскольку склонны к лицемерию и тиражированию расхожих мнений.
…пуританство по-мусульмански, такое же лицемерие, как всякое другое…
Во Франции, напротив, вопросы морального свойства решаются на практическом уровне, исходя из конкретной ситуации.
Я вспоминаю одну парижанку, муж которой был тяжело болен, а любовника внезапно постиг инсульт. Она решала для себя вопрос – кто из них нуждается в её внимании больше, чем другой? Обстоятельства этого дела могут казаться абсурдными, но её логика была морально безупречной.
Недаром фильмы французского кинорежиссера Эрика Ромера[141] относят к жанру моральной драмы: в них речь идёт именно о непостоянстве страсти, например, о том, как вид коленки девушки на пляже может привести к отмене свадьбы героя. Они основаны на мысли о том, что мораль может быть вечной, а вот отношения полов определяются конкретной ситуацией. Люди, вовлеченные в такие ситуации, не должны подчинять себя моральным стереотипам, как делают это англосаксы (французы относят к этой категории также и нью-йоркских евреев, и лондонских мусульман).
Такое вот любопытное мнение американского публициста. И не могу отделаться от впечатления, что всё это не только продолжение сексуальной революции, распространения феминизма, и пр., но, не в меньше степени, продолжение молодёжной революции 1960-х годов.
«Анна Каренина»: спор, который продолжается до сих пор…
В отдельном опусе, посвящённом роману «Анна Каренина», признался, что для меня это «спор который продолжается до сих пор».
Так и случилось, поэтому ничего не добавляя к уже написанному тексту, решил вернуться к «Анне Карениной» уже в «Дневнике».
…манифест от Стивы Облонского[142]«– А знаешь, ты себе наделаешь бед, – сказал он (Стива), найдя фуражку и вставая.
– Отчего?
– Разве я не вижу, как ты себя поставил с женой? Я слышал, как у вас вопрос первой важности – поедешь ли ты или нет на два дня на охоту. Всё это хорошо как идиллия, но на целую жизнь этого не хватит. Мужчина должен быть независим, у него есть свои мужские интересы. Мужчина должен быть мужествен, – сказал Облонский, отворяя ворота.
– То есть что? Пойти ухаживать за дворовыми девками? – спросил Левин.
– Отчего же и не пойти, если весело. Это не будет иметь никаких последствий (в оригинале, на французском). Жене моей от этого хуже не будет, а мне будет весело. Главное дело – блюди святыню дома. В доме чтобы ничего не было. А рук себе не завязывай».
Глупо возражать Стиве Облонскому. Это некий манифест, под которым подпишутся многие мужчины и сегодня. Но это всё-таки обывательский манифест.
И потому что представления «мужчина должен», «женщина должна» унифицируют и усредняют всех мужчин и всех женщин, делают их безликими.
И потому что разделяют мир мужчин и мир женщин китайской стеной, на одной стороне одни правила поведения, на другой – другие.
И потому что при этом и мужчины, и женщины, как только переступят свой мир, вынуждены притворяться – таковы правила.
Поэтому, если окончательно выведутся анныкаренины, обывательская правда сделает мир совершенно унылым.
…манифест от генерала Серпуховского[143]«Женщины – это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством, без помехи любить – это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю – говорил Серпуховский, любивший сравнения, – постой, постой! Да, как нести fardeau (груз – франц.) и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, – а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот fardeau – руки будут так полны, что ничего нельзя делать».
Обратим внимание на «деятельность человека». Генерал не сомневается в том, что человек, занимающийся делом, это мужчина, а женщина это груз на его спине, вынужденный, без этого груза невозможно, но всё-таки, груз.
…манифест от современной английской женщины-интеллектуалаВ Интернете натолкнулся на текст Кэтрин Браун[144], насколько удалось узнать профессора литературы из Англии.
Привожу отрывки из этого текста, который показался мне крайне любопытным:
«Аппетиты англоговорящей публики в отношении «Анны Карениной» кажутся ненасытными. Вслед за публикацией в 1886 году перевода американца Натана Доула[145] было сделано ещё 12 переводов этого романа, в том числе четыре уже в новом тысячелетии. В лондонском книжном магазине Foyles можно выбрать между семью различными вариантами. Отдавая мне чек после приобретения одной из этих книг, кассирша с придыханием в голосе сказала: «Великолепная история любви, не так ли?»
«Нет, не так, – подумала я, но промолчала. – Я вообще не считаю, что речь идёт именно об этом».
Однако мнение о том, что эта книга является романтической, столь же распространено, как и мнение о том, что таковыми являются сонеты Шекспира. Поэтому не следует отправлять проницательному читателю один из шекспировских сонетов (они слишком обманчивы) – и совсем не следует посылать возлюбленным «Анну Каренину».
Эта изменяющая своему мужу героиня в конечном итоге заканчивает свою жизнь под колёсами поезда – и нельзя однозначно сказать, что виновно в этом лишь лицемерно осуждающее её общество. Уже давно ведутся споры о том, каково в романе отношение к Анне.
Отдельные читатели пришли к выводу о том, что она заслужила подобную судьбу, другие считают, что она этого не заслуживает, тогда как некоторые представители обеих групп полагают, что содержание романа подтверждает их точку зрения.
Ранние европейские критики, поддерживали осуждение – как они полагали – Анны в романе, тогда как ранние русские критики, именно за это его и критиковали. Некоторые современные критики пришли к выводу, что этот роман вообще не осуждает Анну. Другие исходили из того, что подобное осуждение противоречит любви Толстого к Анне, а Дэвид Герберт Лоуренс[146] считал, что оно опровергается художественным содержанием романа.
Что касается именно этого вопроса, то здесь я на стороне ранних русских критиков. Терпимое отношение петербургской аристократии к распространенным любовным историям и осуждение Анны за относительную серьёзность и искренность к её собственной связи представлены как достойные осуждения. Тем не менее, в романе есть указание на то, что Анна сделала бы лучше для себя, для людей и для Бога, если бы она отнеслась к своему роману, как Бетси Тверская[147], если бы она вела бы себя осторожно, рассматривала бы его как мимолетное увлечение и причинила бы минимальный вред своей семье.
Как будто те изменения, которые претерпевает характер Анны в следующих друг за другом вариантах романа от примитивной кокетки до знакомой нам Анны, частично разворачивается в обратном направлении. Делая Анну столь привлекательной, Толстой, возможно, подвергает испытанию свою способность сделать привлекательной неверную жену, и, тем не менее, показывает расплату за грех».
Столько сказано (и пересказано), так что самое время поставить точку (или многоточие). Хочу только обратить внимание, что Кэтрин Браун прямо говорит, что она сторонник ранних русских критиков. И виновата Анна за свою «серьёзность и искренность», за то, что не поступает так, как Бетси Тверская. На самом деле, почему (почему?) она не такая, как Бетси Тверская?
Мы вправе сказать, что «манифест» Кэтрин Браун почти соприкасается с «манифестом» Стивы Облонского.