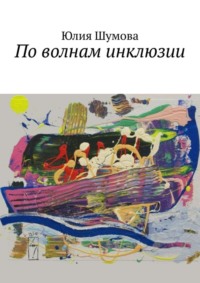Полная версия
К цели по серпантину
Рулетки не было, поэтому мерили кто чем: ладонями, вершками, пядями, локтями. Обещали добраться до дома и с пристрастием замерить соответствующие части тела и сделать окончательный вывод, сколько же оставалось до катастрофы, чуть не лишившей совхоз всего парка грузовиков. Но все сходились в одном: «Юлька – героиня и отчаянная девчонка». Однако я себя героиней не считала. Я лишь боялась, что о происшествии узнает мама и строго-настрого запретит мне ездить в командировки с папой.
Иногда мы с папой возили в молоковозе воду коровам на пастбища, и местные пастухи сажали меня на своих лошадей. Мне очень нравилось кататься верхом. Галопом я ездить боялась, да и папа не разрешал.
Зимой мы в составе этой же колонны ездили в таежную деревню Александровку за запасами для фермы. Долго ехали вдоль тайги, подскакивая на ухабах. Отец рассказывал про зверей, перебегающих нам дорогу: волки, лисы, зайцы были явлением привычным. Но помимо зверья, на дороге вдали от деревни встречался старый дед, одиноко бредущий по обочине. Мы с папой решили, что это злой колдун. Правда, папа несколько раз рискнул остановиться и предложить довести старика, но тот только что-то бурчал под нос и шел своей дорогой.
Как-то на крутом повороте дверь кабины резко распахнулась, и моя шуба вывалилась на снег. Я не вывалилась лишь чудом, точнее, благодаря отцовской выучке. Папа всегда так резко поворачивал руль, что я заваливалась в сторону, поэтому приходилось крепко держаться. И вот, на одном из таких поворотов я вцепилась в ручку на приборной доске, а плохо закрытая дверь резко распахнулась. Слава Богу, всё обошлось!
Вскоре моя жизнь тоже резко повернула на очередном вираже судьбы; распахнулась дверь в новый класс.
Глава 11. Гадкий утенок
Первого сентября я со светлыми надеждами перешагнула порог нового, четвертого «А», класса. Коллектив был знаком только наполовину. В этом классе учились мои подружки, которые жили вместе со мной в спальной комнате. Здесь же была и лучшая подруга Лена С. Класс считался слабовидящим, пишущим по плоскопечатному, учебники у нас тоже были обычными, только буквы крупнее. На уроках ИЗО ребята рисовали карандашами, кисточками гуашью, а мы с Гузелькой и Стасиком не знали, чем заняться. Учительница выдавала нам специальный прибор для тактильного рисования, представлявший собой прямоугольную резинку, как раз под размер листа, и мы острым грифелем выдавливали фигурки человечков, цветы и прочие рисунки, но наши художества были бесцветными и корявыми. Зрячие ребята смеялись над нашими произведениями, а потом брали цветные карандаши и раскрашивали уродливые трафареты. Я жутко стеснялась своих рисунков и ревностно оберегала их от насмешек одноклассников.
Гузель же относилась к этому намного проще. Она сама просила у ребят карандаши или краски и раскрашивала свои произведения, а иногда даже укоряла некоторых ребят в непонимании ее творчества.
– Ну как вы не поймете, что здесь изображено!? – искренне удивлялась Гузель, – это же Гулливер тянет корабли. Всё очевидно: вот Гулливер – ноги, руки, голова; вот веревка, линия берега, а вот корабли и волны, а это – чайка.
И чумазая, сильно взлохмаченная Гузелька с гордостью прикалывала свое творение булавочками к стенду на выставке лучших работ учеников школы.
Незрячими в классе были только мы с Гузель и Стасиком. Но я никак не желала относить себя к слепым и при любом удобном случае демонстрировала свой небольшой сохранившийся остаток зрения. Я даже крупные буквы могла прочесть с близкого расстояния и людей узнавала по лицам, но всё же я видела на несколько порядков хуже, чем мои новые одноклассники.
Гузель, в отличии от меня, совершенно не стеснялась своего положения. Она училась писать обычной ручкой наощупь. Строчки, конечно, получались корявыми, буквы плыли и прыгали, но Гузель не сдавалась. Она всё время искала способы писать ровно, пусть и наощупь: подкладывала линейку или выводила плоскопечатные буквы в клеточках брайлевского прибора. Я завидовала Гузелькиной раскованности. В отличии от неё, я никак не могла справиться с чувством неловкости, которое испытывала перед зрячими. Я, хотя и видела немного, но этого было недостаточно, чтобы стать одной из них. Надо мной насмехались, если я спотыкалась или искала какой-нибудь предмет:
– Эх ты, слепошарая! – глумились ребята.
Во мне такие слова отзывались страшной болью. Гузелька поступала проще: она сразу била обидчика по физиономии. Наши роли как будто переменились – теперь мушкетером в юбке стала она. А я рассуждала так: «Опять драться, кулаками добиваясь уважительного к себе отношения?! Нет, драться я больше не буду, хватит. Я хочу быть прилежной и скромной девочкой. Атаманши больше нет. Мои новые одноклассницы – такие славные, тихие девочки! А на отдельных дураков нечего обращать внимание, они его просто недостойны!»
Мы с моими прежними одноклассниками были здесь чужими. Мы трое громко стучали грифелями при письме по Брайлю, вели счет в уме, игнорируя вычисления столбиками; учебники у нас были громоздкие – раза в три толще обычных. Читали мы кончиками пальцев, тогда как другие ребята открывали нужную страницу и надевали очки. Тот, кто мог читать без лупы или очков, занимал особое положение. Слабовидящие ребята мало чем отличались от полностью зрячих, и с ними все обращались как с обычными детьми. Нам же заранее выдавали кредит недоверия.
– Кто пол плохо помыл в классе?
– Это вот они, слепые ребята!
– Кто краски разлил или горшок с цветком уронил?
– Это, конечно, слепая троица!
– Кто мимо мусорного ведра накидал?
– Ну, кто, кроме них?!
Зрячие одноклассники быстро поняли, в чём польза от нас – от «новеньких». На нас можно было свалить все последствия баловства и хулиганства. Такая вот презумпция виновности, и бремя доказывания непричастности к случившемуся лежало на нас. Но, желая подружиться с ребятами и понравится им, мы охотно брали вину на себя. Для слабовидящих одноклассников это было удобно, а для персонала интерната – вполне логично, и не требовало каких-либо доказательств по существу. Со временем такое положение вещей упрочилось, и стряхнуть с себя роль главных пакостников удалось нескоро.
Новая воспитательница Сания Тагировна нас сразу невзлюбила:
– Ох и навязались вы на нашу головушку, – горестно вздыхала она.
Мы были инородными телами, грубо вторгшимися в ее гармоничный, слаженный детский коллектив. Сания Тагировна с первого класса вела этих детей и очень нетерпимо отнеслась к новобранцам. Надо сказать, дисциплина в новом классе была просто образцовой, а дети – ухоженными и прилежными. Девочки все как на подбор хорошенькие, скромные. Мальчики тоже вполне себе адекватные. Жить бы да радоваться, но теперь я вместе со своими прежними одноклассниками являлась бельмом на глазу Сании Тагировны.
По вечерам к новой воспитательнице захаживали коллеги, и не проходило и дня, чтобы они вслух не восхитились продуктом воспитания своей подруги.
– Какие у Вас дети красивые, особенно девочки, все как на подбор – башкирочки с татарочками низенькие, кареглазенькие, кроме этой. А она кто? – вопрошали женщины, указывая в мою сторону. – Русская что ли? Так и на русскую тоже не очень похожа. Кто она по национальности?.. А почему тебя поставили к ним воспитателем?.. А, они из этого сумасбродного класса. Да уж, Сания! Хорошее тебе приданное оставила Манигуль Силимьяновна. А её, кстати, куда перекинули?
Коллеги-подружки продолжали судачить, а я, униженная их словами, мучительно старалась понять, что во мне не так. «Неужели я и вправду такая несуразная? Может быть, дело в том, что я светловолосая и самая высокая в классе? Ну и что с того?» – тут же возражала я себе. А может я смотрюсь нелепо потому, что мама вечно рядит меня в красивые платья? Мне уже Сания Тагировна делала замечания по поводу моих помпезных нарядов.
– Скажи маме с папой, что здесь казенное учебное заведение, и нечего так выряжаться. Ведь ты не дома живешь, правда? Скромность надо иметь. Выглядишь, как цветочная клумба. И волосы чересчур длинные – надо подрезать. А если вши разведутся? Будешь моих девочек заражать?
Я страстно хотела понравиться нашей интернатской маме и ради этого была готова на всё. Как-то, приехав домой, я попросила маму коротко меня остричь.
– Ты что, сдурела?! – закричала та, – кто тебя на такое надоумил?
Но я не унималась:
– Мам, наряды нужно сменить на что-нибудь попроще, а то мне перед девчонками неудобно. Я среди них как буржуйка! А еще Сания Тагировна сказала, что мы ведем себя вульгарно, как эти, ну, «новые русские», а школе ничем не помогаем.
Родители после таких замечаний всерьез задались вопросом, чем они могут помочь школе, и зашли к директору для разговора. Теперь мама с папой могли себе позволить заняться спонсорством. У нас недавно открылось крестьянско-фермерское хозяйство и продуктовый магазин. Нас причисляли к «новым русским». Родители гордились своим материальным положением и кичились им перед односельчанами. То было время малиновых пиджаков, массивных золотых цепей, толстенных кошельков и вишневых «девяток». Всё это и многое другое являлось атрибутом благосостояния и принадлежности к числу смелых и предприимчивых.
Я, напротив, стеснялась нашего достатка. Мы были советскими детьми и хорошо усвоили, что капитализм и буржуазия чужды, враждебны здоровому обществу. Сания Тагировна читала нам советские книги патриотического содержания – про Тимура и его команду, про детство Максима Горького, она восхищалась честными поступками юного Володи Ульянова. Мы читали про образцовых советских мальчишей Чука и Гека из простой советской семьи. Мы восхищались поступками Павки Корчагина и ненавидели его богатую подружку Тоню Туманову.
– Душа Тони Тумановой проржавела и исказилась под влиянием социально вредных ценностей, – говорила нам Сания Тагировна, и мы искренне с ней соглашались.
Все книжные герои были бедняками, которым чуждо всё, что не вписывается в коммунистическую идеологию: понятие частной собственности, материальное благополучие, социальные различия.
Да, красных галстуков уже никто не носил, а в стране провозгласили демократию, но до сознания народа новые правила доходили с разной скоростью и понимались по-разному. Кто-то воспринял свободу и гласность как вседозволенность и наглость. Кто-то пошел дальше и считал демократический режим родственным анархии. Резко повысился уровень преступности. В умах молодежи нарисовался романтический образ народного героя – рэкетира. Многие мальчики стремились походить на плохих парней. Массово снимались фильмы про бандитский мир, где главный герой резал, грабил, убивал, но не для собственной наживы, а в целях восстановления социальной справедливости. Летели головы не только отрицательных персонажей, но и союзников главных героев. И те, и другие были преступниками. Одни – герои в жанре преступной романтики в духе девяностых, другие – убийцы и негодяи в классическом понимании. Из динамиков лились песни про сложную жизнь на зоне, про старушку-мать, которая ждёт бродягу-сына.
Что касается нашей воспитательницы, она враждебно отнеслась к новой политике государства и нас, своих воспитанников, продолжала вести по коммунистическому пути. Она регулярно устраивала проштрафившимся публичную порку. Мы собирались и обсуждали тот или иной поступок бедокура-одноклассника, потом Сания Тагировна просила нас всех удалиться из класса для тщательного обдумывания сути вопроса и выносила вердикт. Избранную меру наказания никто не обсуждал и не оспаривал. Любая инаковость строго пресекалась. Вечером мы отчитывались перед воспитательницей за совершённые в течение дня честные поступки. За дурные поступки отвечали по всей строгости, в соответствии с Кодексом совести и чести. Нам попадало за любую провинность: например, за то, что мы бегали по коридорам, за проявление чересчур бурных эмоций. Особенно строго нас наказывали за то, что недостаточно быстро поднимаемся с места в знак приветствия старших.
Иногда мы с Гузелькой соскакивали невпопад, приветствуя одноклассника, возвращающегося из туалета. Ребята покатывались со смеху! Или, наоборот, опасаясь ошибиться в объекте уважения, не торопились подниматься с места – тогда Сания Тагировна обрушивала на нас шквал гневной ругани:
– Уф, как неудобно получилось перед Чулпан Ахметовной! Я чему вас учу? Я вам не Манигуль Силимьяновна! Я вас быстро к порядку приучу!
Сания Тагировна была всем недовольна, особенно, когда дело касалось меня.
– За что она меня так ненавидит? – спрашивала я своих подруг.
Но те только пожимали плечами. Я чувствовала себя гадким утенком и буржуазным элементом в красивой и правильной системе Сании Тагировны.
Моё положение усугублялось тем, что к друзьям родители приезжали на электричках или автобусах, а ко мне – на вишневой «девятке». Модную в середине девяностых вишневую «девятку» воспевала Ирина Аллегрова и группа «Комбинация». Ребята окружали яркую машину и ощупывали её детали. Иногда папа катал их вокруг школы. Ребята восторгались кожаной оплёткой руля, мягкими сиденьями. А мама тащила сумки съестного к нам в класс. В то время она работала заведующей пищевого производства, и ей непременно хотелось всех накормить.
– Что себе позволяет твой отец?! – злобным шепотом возмущалась Сания Тагировна, – какое он имеет право катать интернатских детей на дорогой машине? Мы за них в ответе! А мама твоя по какому праву устроила здесь столовую? Ваша столовая там, и кушать вы должны только в столовой! Чтобы такого больше не было! Я ясно выражаюсь? Если такое еще раз повториться, я буду вынуждена доложить куда следует!
«Куда следует» – означало нашему грозному директору. Голос у директора был таким громким и зычным, что ему бы батальоном командовать, а не кричать на дрожащих от страха детей!
Мне было нестерпимо стыдно за эти бесшабашные поступки родителей. Сания Тагировна – всеми уважаемый педагог с многолетним стажем, и ей лучше знать, как должно поступать детям и их родителям. Ещё обиднее делалось от того, что я никак не могла найти с ней контакт. Что бы я ни предпринимала, она по-прежнему была мною недовольна. Примерное поведение никак не отмечалось; отличные оценки тоже оставались без внимания. Мои занятия музыкой были строго регламентированы. Если Галина Николаевна задерживалась, или начало урока откладывалось по другим причинам, я спешно уходила с любимых музыкальных занятий и бегом возвращалась в класс. Ведь главное – не рассердить воспитательницу! Сания Тагировна никаких оправданий не принимала, а полученную информацию никогда не перепроверяла, так как полагала, что всё должно строиться на честности и верности слову. Я с глубокой тоской думала о своей прежней интернатской маме. Вот Манигуль Силимьяновна доверяла мне и отпускала на уроки музыки даже по вечерам, чтобы можно было закрепить пройденный материал. А эта новая очень уж подозрительная – даже проверяет книги, которые я приношу из библиотеки, и не разрешает читать в неположенное время.
Свободного времени у нас почти не оставалось. После ужина мы шли гулять или слушали очередную балладу про честную советскую жизнь. А уже в половине девятого отбой, и рот на замок! Начальство воспитательницу за такую строгость хвалило.
– Всем надо у Вас учиться, – восхищались коллеги, – наши всё никак не угомоняться, а Ваши – как солдаты!
Так прошел год. Стасика тетя Лена из школы забрала. Ей наш класс не нравился по уровню интеллектуального развития и стилю воспитания. По словам тети Лены, только Стас и я хорошо учились, но, если задержаться в этом заморенном коллективе надолго, то и мы скатимся. В предыдущем классе, хоть и учились сложные ребята, но учитель был сильным и обладал истинным педагогическим талантом. Даже Сергей стал постепенно выправляться. А Стас и я, как считала тётя Лена, вообще очень способные ребята, и нам срочно нужна другая школа. Тетя Лена обсудила этот вопрос с моими родителями, но те не разделяли ее тревоги, так как всем были довольны.
Я тяжело прощалась с Тетей Леной и Стасом и еще долго ждала их возвращения. Они навестили нас только через три года. Мы обнимались со Стасом, как обнимаются брат с сестрой после долгой разлуки. Тетя Лена оставила его на целый день, и мы никак не могли наговориться. Поразительно, но Стаса живо интересовало то же, что и меня. Мы говорили о музыке, литературных героях и о жизни в целом. В совпадении наших вкусов не было ничего удивительного, ведь я несколько лет являлась практически полноценным членом этой семьи. Мы со Стасом воспитывались под влиянием тети Лены, Галины Николаевны, нашего первого учителя и щедрых тумаков Сергея. К сожалению, Стаса и его замечательную семью я больше никогда не видела и не знаю, как сложилась их судьба.
С остальными ребятами я со временем хорошо поладила, но для воспитательницы продолжала быть гадким утёнком. Своими замечаниями она оказывала влияние на мнение моих подруг, а девчонки любили выстраивать всевозможные рейтинги ума и красоты. Мы с Гузелью всегда занимали в этих рейтингах последние места, и это несмотря на то, что Гузель башкирка. Девчонки общались на родном языке, и их очень забавляло то, что я ни слова не понимаю. Я стеснялась своего роста, хотя была стройной и очень тонкой в талии. У меня были длинные волосы, одевалась я всегда со вкусом, однако всё равно оставалась для подруг и одноклассников белой вороной.
Ярлык гадкого утенка на меня уже навесили, и переломить такое отношение казалось невозможным. Я стала стесняться не только своих модных нарядов, но и своей внешности. Я была самой высокой девочкой в классе, и, чтобы не выделяться среди низеньких башкирочек, начала сутулиться. По той же причине я отказывалась от туфель на каблуках. Мама ругала меня за упрямство и искренне не понимала, почему мои вкусы изменились. Но моя чрезмерная скромность проистекала из одного желания – желания не выделяться.
Надо было как-то с этим жить. Да, я – гадкий утенок, но не всем же красивыми быть! А если природа не дала красоты, разве ты права на счастье не имеешь? Посмотреться в зеркало и самой понять, действительно ли я неказистая, возможности не было, ведь зрение в последнее время сильно снизилось, и я теперь видела только тени.
Тети Лены уже рядом не было. Она бы поговорила со мной по душам и направила мои печальные мысли в позитивное русло. Одна Галина Николаевна, учительница музыки, никак не унималась в своих восторгах относительно всего, что я делала. Она часто говорила мне:
– Ну и хорошенькая же ты, Юленька! Как красивая куколка! Фигура у тебя уже обозначилась, как у взрослой девушки. Ну чего сутулится начала? Что-то раньше я за тобой этого не замечала. Что с тобой случилось? Какая-то угрюмая стала. Тебе очень идет улыбка. Ну не хмурься ты! А ну-ка, улыбнись!
Я не верила Галине Николаевне, хоть и любила ее всем сердцем. Авторитет подружек был сильнее. «Она просто любит меня, поэтому так говорит», – думала я.
Я решила поговорить о своей внешности с мамой. Мама только вздохнула и сказала:
– Если ты была бы зрячей, тогда была бы симпатичной! Столько врачей в самых лучших клиниках страны, и всё равно ослепла. Что поделаешь! – мама заводила одну и ту же пластинку про наши столичные мытарства и борьбу за спасение моего зрения. Она не оставляла надежд вернуть мне солнце, и мы при любом удобном случае возвращались в Москву.
Гузелька вела себя в точности наоборот. Она считала себя первой красавицей несмотря на составленный девчонками рейтинг красоты. Она где-то добыла туфли на высоченных каблуках, а чтобы каблуки звонче цокали, всадила в подошву канцелярские кнопки. Шляпки кнопок звонко стучали по полу. Гузель надевала ярко-красное платье и оставалась вполне довольна собой, хоть и не видела себя в зеркале.
В шестом классе за моими хорошенькими подружками начали ухаживать мальчики. Я же сутулой каланчой громоздилась среди них. Мои платья непременно ниже колен; мягкие туфли на плоской подошве и волосы, заплетенные в тугую косу. Я всем своим видом показывала, что знаю о своей некрасивости и выделяться не стремлюсь.
Конечно, было тяжело и обидно за себя, но я изо всех сил душила в себе зависть. «Зависть – чувство грязное, черное, отравляющее человеку жизнь. Надо найти себя. Надо чего-то достичь, стать лучшей в каком-нибудь деле, выделиться за счёт своих способностей, раз уж мне так не повезло с внешностью. Попробую хорошо учиться и стану круглой отличницей, – размышляла я. – Вот вырвусь из этой тюрьмы, скину ярлык гадкого утенка и заживу той свободной жизнью, о которой так сладостно мечтаю!»
На окнах первого этажа школы поставили решетки. На вахте дежурили дотошные сотрудники. Выпускали из интерната только тех, у кого на руках имелась «вольная». «Вольной» мы называли заявление от родителей. Бумага была примерно следующего содержания: «Я, родитель такой-то, разрешаю моему ребенку покидать стены школы-интерната с целью посещения магазинов и поездки домой». Полностью незрячих детей не отпускали даже под ответственность родителей.
Напротив музыкального кабинета располагалось единственное окно без решеток. Я подолгу стояла у этого окна. В смелых мечтах я вылезала из него и сбегала домой, к родителям. Я живо представляла себе изумлённые лица родственников – как они обрадуются и удивятся моей выходке, а потом мама скажет, что меня можно перевести в местную школу, а папа согласится. Как ни странно, к шестому классу я всё никак не могла смириться с участью оторванного от дома ребенка. Меня постоянно тянуло домой. «Вылететь бы из этого окна и пронестись свободной птицей над городом! Домой, домой, домой!»
Глава 12. Алина
Ярлык гадкого утёнка, прицепившийся ко мне с лёгкой руки Сании Тагировны, невероятно осложнял моё существование. Я на собственной шкуре узнала, каково быть изгоем, а главное – как просто заставить человека поверить в истинность общественного мнения. Если дурнушку в нелепом наряде объявить богиней стиля, довольно скоро в этом уже мало кто усомнится: появятся последователи, возникнут новые веяния моды. Напыщенного нахала можно во всеуслышание назвать большим оригиналом с немного дерзким характером, и общество будет рукоплескать его тривиальным шуткам. Если лентяя и необразованного болтуна представить как философа, размышляющего о сущности бытия, люди вдруг начнут находить в его пустых речах великий смысл. Правда, такой мыслитель не отличит «бытие» от «жития», но какая разница тем, кто отождествляет философию с праздной болтовней? Скоро лжефилософа окрестят гуру, и у него появятся ученики. Главное – навесить нужный ярлык твёрдой рукой, да с уверенностью и нажимом. Общественное сознание податливо и очень восприимчиво к броским, категоричным суждениям. А одиноко звучащие протестные голоса почти не слышны и потому не мешают процессу формирования общественного мнения.
К нам в спальную комнату поселили новенькую девочку – Алину. Она училась в старшем классе, но осталась на второй год. Педагогическая комиссия признала Алину умственно неполноценной, и было решено перевести её в коррекционный класс. Такой класс в нашей школе имелся. Там учились дети с задержкой психического развития и дебильностью. Мы называли его вспомогательным и сторонились тех, кто в нём учился. Школьное общество считало ребят из этого класса идиотами, неспособными жить полноценной жизнью. Их обижали все кому не лень. Например, некоторые отбирали у них полдник или игрушки.
– Зачем дурачкам всё это? – оправдывали себя задиры.
На переменах можно было встретить неадекватных ребят из вспомогательного класса. Они ползали, катались по полу, сосали кулаки, смеялись невпопад, улюлюкали и могли чем-нибудь облить при случае. Но в большинстве своем эти ребята были безобидными и работящими. Напротив, агрессивно вели себя мы – «условно нормальные» дети. Мы кидались в особых ребят чем придется и смеялись над ними. Мы дразнили их и убегали, воображая, будто за нами гонится страшный монстр.
Безусловно, образованием этих детей занимались. Они обучались по специальной вспомогательной программе. Однако, больше всего внимание уделялось развитию навыков ведения домашнего хозяйства. В коррекционном классе стояла электрическая плита, и оттуда всегда вкусно пахло. Вечно голодные, мы с удовольствием прогуливались мимо этих дверей, гадая, чем сегодня кормят странных учеников.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.