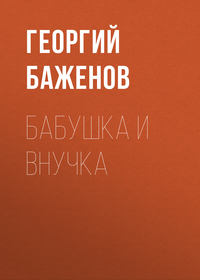Полная версия
Яблоко раздора. Уральские хроники
– Чего стоишь, дура! – заорал Базиль на осоловевшего от страха Ерохина. – А ну, держи… – Подхватив Яшу под руки, они стащили его с инструмента и положили прямо на залитую раствором площадку.
– Платок! Ну! Или… чего там…
Базиль сдернул с Яши каску, кровь, казалось, хлестанула из раны ручьем.
– Живей, ну… копаешься-а-а!..
Сашка скинул с себя робу, дерганул с головы свитер, рубаху, взялся за майку…
– Рубаху… давай рубаху!
Базиль распластал рубаху на длинные лоскуты и, как мог, обмотал Яше голову.
– Братцы, чего такое?! – По лесенке, с «полатей», как кошка, свалился на площадку Вовчик.
– Тихо, не ори… не видишь?! – прикрикнул Базиль. – А ну, взяли… Стоп! – Сам себя остановил Базиль. – Сашка, дуй к Ане. Скажи… понял?..
Сашка кивнул и кубарем скатился вниз, побежал к котельной.
Базиль с Вовчиком подхватили Яшу и осторожно понесли с вышки; верхняя губа у Вовчика прыгала.
Они еще только подносили Яшу к будке, когда увидели, как из котельной, перемахивая сугробы, в расстегнутой настежь телогрейке, без шапки, бежала к ним Аня.
Она налетела на них как коршун, вцепилась в Яшу, им стало не под силу, и они опустили его на землю, на снег.
Аня упала с ним рядом, на колени, так и не выпуская из окостеневших рук брезентухи Яши, впиваясь взглядом в серо-мглистое лицо, словно пронзая его мольбой: «Что такое, что случи-и-илось, что-о?!.»
Наконец, когда ее прорвало, и она дико закричала:
– Не хочу, не хочу-у!.. – они, не обращая на нее внимания, разом подняли Яшу и понесли в будку.
– Вызывай машину! – Базиль жестом показал Сашке Ерохину на «Теслу». – Скажи: так и так…
– Ага, понял… – Руки у Сашки дрожали.
* * *– Я думала, это все… конец… Я бы умерла.
– Ну что ты… – Он благодарно, ласково гладил ее тяжелой ослабевшей рукой. – Ну, ударило разок… бывает.
– Ты не видел себя… Как смерть был.
– Скажешь тоже, – улыбнулся Яша какой-то детски недоверчивой, удивленной улыбкой: он как-то не представлял себя мертвым. – Ну, потерял сознание… а вы уж… навыдумывали…
– Ты не понимаешь… Я… я бы не выдержала… я не знаю, что бы с собой сделала. Я не хочу больше, не хочу, не хочу! – На кончиках ее ресниц задрожали слезы.
– Глупая… Ну, я же живой? Ну и вот… и не надо плакать, не надо расстраиваться, моя родная.
– Господи, если бы ты знал… вся душа перевернулась во мне. Так и пронзило: «Что же я наделала?! Это я, я! Он из-за меня… я замучила его…»
– Ну, вот еще… случайно вышло, поскользнулся… сам виноват, крюк не закрепили.
– Ничего ты не понимаешь. Ничего…
Он гладил рукой ее волосы, а она с каким-то тайным испугом и одновременно с прорвавшейся наконец открытой нежностью в глазах вглядывалась в его лицо, как бы не до конца еще веря, что все обошлось. Ну, полежит день, другой… а там выйдет снова на работу, рана неглубокая; крови немало потерял, ослаб, а в остальном все такой же, как будто и не случилось с ним ничего. Яша, Яша…
– Я хотел тебе сказать…
И как прежде, как совсем недавно, осторожный нежный ее палец лег на его губы:
– Не надо…
Он вдруг разом, глубоко задохнулся от этого тихого, ослабевающего на излете шепота, потянулся рукой к ее горячей, истонченной муками последних месяцев шее, обвил ее крепко, желанно, и она приняла его ласку, склонилась к нему, улыбаясь, как в тумане, плавающей, плывущей перед его глазами улыбкой, смотрела на него как на маленького ребенка, заранее прощая ему все его глупости из-за безмерности своей любви, и взгляд ее был полон не только нежности, но и как бы легкой усмешки, небольшого подтрунивания, но вскоре все это расплылось, растаяло, как только она почувствовала вначале слабый, а затем все более забирающий ее озноб, губы их слились, и ничего уже нельзя было понять и осознать…
В эту ночь она так и не смогла уйти от него.
А дома ее ожидало письмо, которое она распечатывала утром с виновато сжавшимся сердцем:
«Здравствуй, милая наша Анечка. Сил нету больше сдерживаться, потому пишу тебе все как есть. Ты не подумай, што у нас тут што плохо, наоборот, мы живем с Алешкой в веселости и довольны премного, хужее другое, сны мне разные с ужастями снятся, токо не об том сейчас и речь, раз-болталася… язык, недаром люди говорят, он без костей у нас. Приходил к нам мужчина милиционер, и после сама я была у начальницы в жэке, которая по ордерам, заладили в один голос, штоб мне из квартиры, Анечка, уйти, а как ты приедешь, скажешь, как, мол, мама, ты уехала, об том они не думают и не печалятся. Еще побывала у Лиды, ты не обидишься, кто старое помянет, тому, говорят, глаз вон, она посоветовала, пиши скорей Ане, а срок ее кончится, пускай приезжает, а то будто бы квартиру вовсе отберут, а твои слова, што ты здеся родилась и никуда отсюдова не съедешь, умрешь тут, как твои отец с мамкой, хотя не дай Бог, такие слова твои я сроду помню и потому пишу тебе, штоб ты все знала и решила б, как тут надо. А кабы приехала, то и Алешка был бы рад несказанно, потому, когда Марья Ивановна, учительша, говорит, завтра-де, детки, родительское собрание, очинно ему хочется, раз папки его дорогого нету, штоб хотя мамка посидела за партой с другими всеми родителями. Учиться он шибко старательный, но много разных мыслей в голове, от которых хмурится, а мне, старой, догадаться чаще невдомек, получается, живем хорошо, а будто и плохо. Измучился он душой по тебе, одно слово. А меня наискось слушается, говорит, ты, бабушка, прожила без арихметики, я тоже проживу. Нетто нынче так можно рассуждать. А в другом во всем у нас тишь и порядок, ждусь не дождуся весны, охота по земле потоптаться, кожа на ногах зудит – просится по земле-матушке пройтиться… Вот хотя и то, куды без огорода я буду, и Алешке без него тоже некуда, с мальства это куда как худо, а в другом месте и без земли остануся, хотя не знаю, как это и можно. Много не надо, а без немногу нельзя, хотя бы штобы с крылечка повидать, как зацветает по лету картошка. Так што Лида говорит, Аня пускай долго не думает, а то тута квартир как повсюду не хватает, могут враз забрать, ино не заявится, а мне тогда уйти придется беспременно, хотя куда уходить, сама знаешь, без вас мне как без белу свету. На этом кончаю, крепко целуем и с большим душевным приветом к тебе – мама с Алешкой».
Глава третья
Аня возвращалась от судьи, с трудом, в тяжелый полунаклон снимала с ног боты и, чувствуя себя вконец разбитой, густо дыша от непривычной телесной грузности, осторожно пристраивалась на диван. Еще не знали, кто у них будет, Алешка или кто-то другой, а уж он вовсю давал о себе знать. Аня лежала на диване, распахнув настежь платье-халат, и какое-то время в облегчении ожидала, когда сердце ее само по себе немного успокоится. С каждой секундой дышать становилось полегче, и какая-то как будто истома, но не истома, а томящая изнутри тяжесть наконец оставляла ее. Аня глубоко, порывисто делала два-три полных вдоха, воздух был так плотен, что даже в горле саднило, а через некоторое время все же легчало. Кожа с выступившими на ней капельками пота становилась прохладной, и явственно ощущалось, как она, подсыхая, колюще сжималась и натягивалась на животе. Удивленная до чувства недоверия к видимому, Аня, как и много раз до того, с холодящей тревогой смотрела, как округлый, большой живот вдруг начинал бугристо, волнами ходить, и, что самое странное, каждый раз в другом месте, будто ребенок там внутри крутился и кувыркался, как ему когда нужно. Все-таки до жути странно было и непонятно, что он там давно живой, настоящий, с ручками и с ножками, ест, пьет и спит… и так иной раз чудно и загадочно это представится, что голова вдруг кругом пойдет: надо же, не было никого, никакой жизни, ничего… и вдруг… В такие секунды Аня проникалась особенной нежностью к Кольше, тут было так, словно это он, Кольша, и есть главный виновник чуда. И сейчас, когда она с прежним любопытством вглядывалась, как нетерпеливо бьется в ней ребенок, к всегдашнему ее чувству умиления и нежности прибавлялось ощущение горькой обиды за человеческую жизнь. Неужели он родится только для того, чтобы потом умереть? Господи, как же это обидно…
Ребенок в животе слишком растревожился, требовательно и сильно бил ножками, как будто недовольный чем-то, хотя чем ему быть недовольным? Аня улыбнулась, и в этой ее улыбке было все-таки столько материнского счастья, гордости собой, что, конечно же, никакие мысли о смерти не могли ни смутить, ни замутить ее состояния надолго. Пусть хоть что, хоть как, но что же делать, если она счастлива, если так надо, если так хочется, если без этого она уже и не представляет своей жизни. Аня улыбнулась тихой, умиротворенной улыбкой, вместе с физическим отдохновением после всей этой мышиной и обидно-бестолковой беготни пришло на душу успокоение, хотя в иные минуты, когда она как бы вдруг сознавала, в какие же мгновения ей бывало покойно и светло на душе, ей становилось страшновато от собственной жестокой беспамятности, что ли, от того, что она способна ощущать счастье и радость даже тогда, когда у нее, в сущности, такое большое горе. Жизнь в ней была сильней, чем смерть матери, и вместо того, чтобы представлять жестокой смерть, Аня представляла жестокой себя и свою жизнь. Но в конце концов все эти мысли мешались в голове, в них просто не было ни выхода, ни облегчения, и сердце ее, отяжеленное счастьем скорого материнства, окатывалось волнами все же глубоко отрадного волнения.
С шумом хлопнула входная дверь. Аня вздрогнула, всполошилась, услышав голоса; быстро запахнула на животе халат и, невольно охнув, с усилием привстала на диване. И в этот момент, когда она, сидя на диване, нащупывала ногами тапочки, а руками, как от боли, обхватила крест-накрест живот, но не от боли, а просто для удобства, в комнату влетел Кольша, а за ним вошла Лида.
– Вот, Анют, Лидуха тебе сейчас все растолкует!
– Здравствуй, Лида, – улыбнулась Аня.
– Да сиди ты, сиди, – обеспокоенно и быстро заговорила Лида, – вот еще, гостья нашлась, чтоб из-за меня вставать. – И как бы с завистью, нараспев добавила: – Ань, а тебе иде-е-ет!.. – И приложила ладошки-лодочки к своим щекам: – Ты така-ая-я… дородная, как булка! Честное слово! – Лида звонка рассмеялась, и смех ее был приятен, как весна, которая стояла сейчас на дворе – и там и тут чувствовалась свежесть, беззаботность, звончатость.
– Я все уже знаю! – затараторила Лида. – Слушай, только так: когда пойдешь к директору, обо мне ни слова. Обо мне вообще никому ни-ни… поняла? Потому что, если узнают, тогда делу каюк… короче, когда придешь, главное, чтоб он тебе резолюцию черкнул: мол, не согласен там или категорически возражаю, поняла? А то все эти заявления в суд будут как слону дробинка. Надо, главное, чтобы основание было…
– Ну да, он тоже мне сказал… говорит, а какое у вас, собственно, основание?
– Во-от! – весело подхватила Лида. – Правильно! Они-то вам морочат тут голову, а вы без подписей слабаки против них… у вас и заявление-то в суд не примут. Что ты! Они тут все знают, им главное – квартиру заполучить, а там хоть трава не расти. Завод расширяется, жилплощади не хватает, а ваша квартира – пустует. Почему бы ее не забрать. Правильно они рассуждают?
– А что ж правильного, если несправедливо? – возмутился Польша.
– Это другой вопрос, совсем другой вопрос, Коленька, – как учительница ученику снисходительно сказала Лида. – Вот представь сам. К нам в юрисконсультацию завода идут без конца люди. А по какому вопросу? На девяносто процентов с жильем. И завод, конечно, всеми способами изыскивает площадь. А с такими, как вы, которые, по существу, не живут в поселке, у нас одна задача – поскорей разделаться. Вы как балласт для нас.
– Понятно, – усмехнулся Кольша.
– И учти, Ань, обо мне ни слова, нигде, – снова забеспокоилась Лида. – А то получается, я против своего завода пошла.
– Не против завода, а за справедливость, – вставил Кольша.
– Ишь какой борец за справедливость нашелся! – всплеснула руками Лида. – Скажи спасибо, по старой дружбе решила помочь… А то заладил— справедливость, справедливость…
– Ладно, ладно… – Кольша подошел к Ане, подхватил ее под руку и, помогая встать, повернулся вполоборота к Лиде: – Вам тут дай волю, вы все законы на свое местничество перевернете. И еще гордиться будете.
– И будем.
– Во-во, – усмехнулся Кольша. – А забыла, как в школе клялась: до конца, до смерти… за правду, за честность.
– А это и есть, Кольша, до конца, до смерти… Только тут правда жизненная, человеческая, а не придуманная за школьными партами. Тут, Коленька, жизнь.
– Да, недаром тебя в консультации держат да нахваливают. Ты же настоящий патриот завода!
– Спасибо. – Лида деланно-шутливо поклонилась и вдруг весело, легко рассмеялась. – Ну, пошли, что ли? Вы к директору, а я…
Втроем они вышли на улицу, и так на них пахнуло весной, талым снегом, ласковым теплом солнца!
Директор завода, прочитав заявление, даже и разговаривать не стал.
– Я этими вопросами не занимаюсь. Зайдите к моему заместителю по быту.
– Но я… – начала было Аня.
– Я вам еще раз повторяю, этими вопросами занимается мой заместитель Глебов. Всего хорошего, девушка.
– Но он…
Директор нажал на кнопку, вошла секретарша.
– Следующий, пожалуйста, – сказал директор.
Секретарша, кивнув, вышла; Аня, посидев две-три секунды в замешательстве, забрала со стола заявление и, тяжело переваливаясь, хотя и стараясь скрыть это, направилась к выходу.
– Ну что? – спросил Кольша.
– К заместителю послал.
– Но ты ему сказала, что ты…
– И слушать не хочет.
– Ты бы ему…
– «Ты бы, ты бы»… Говорю тебе, не слушает, послал к заместителю. Девушка, а где тут у вас Глебов сидит? – спросила Аня у секретарши.
– В конце коридора направо. Вторая дверь.
– Спасибо. А как его зовут, не скажете?
– Кого? Глебова? Сергей Сергеевич.
Сергей Сергеевич Глебов принял их, прочитал внимательно заявление. Взглянул на Аню. Перечитал заявление еще раз.
– Не могу подписать, – сказал спокойно.
– Тогда поставьте свою резолюцию. – Кольша привстал и напористо указал пальцем: – Вот здесь.
Глебов улыбнулся. У него была хорошая, добрая улыбка и какие-то неожиданно грустные глаза.
– Наверное, считаете нас страшными бюрократами? – продолжал улыбаться Глебов и одновременно как-то задумчиво посматривал в окно.
– А уж это наше дело, кем мы вас считаем. – Кольша и не думал принимать игру Глебова в вежливые улыбочки-ухмылочки.
– Ответьте мне на один вопрос. Только откровенно. – Глебов посмотрел Ане в глаза. – Разве вы вернетесь в поселок после окончания техникума?
– А вот это и вовсе наше дело, – опередил Аню Кольша. – Ваше дело – отказать нам или подписать заявление. Вот так.
– Ну а все-таки, Анна Борисовна?
Аня слегка покраснела, услышав свое отчество, непривычно показалось.
– Я… согласна со своим супругом. Квартира наша, и нам нужен ордер. А все остальное только разговоры…
– Та-ак… – протянул, как бы взвешивая что-то, Глебов. – Ну, хорошо… давайте просто поговорим.
– Странно, мы к вам с заявлением, вы к нам с разговорами, – не выдержал Кольша. – Вы бы лучше резолюцию поставили, вот здесь. Да, да…
Глебов посмотрел на Кольшу долгим пристальным взглядом, и в этом взгляде было больше раздумия, чем укоризны или неодобрения.
– Поставлю, поставлю, молодой человек, не беспокойтесь. Только вот поговорить с вами мне все-таки хочется. И вот почему.
Но ни Аня, ни Кольша не откликнулись ни единым движением на это «почему», в кабинете на какое-то время повисла тишина.
– И вот почему… – задумчиво повторил Глебов. – Конечно, я понимаю, Анна Борисовна, у вас большое горе, умерла мать. Я вам глубоко, искренне сочувствую. – При этих словах губы у Кольши иронически растянулись. – И поверьте, я говорю искренне, – продолжал Глебов. – Но… жизнь есть жизнь. Разве на так?
Как-то непонятно было, нужно ли и можно ли отвечать на такой вопрос, так что в кабинете опять повисло молчание.
– Вы и сами пришли сюда именно поэтому. Потому что жизнь – это жизнь. Только так… – Глебов многозначительно обвел их взглядом. – А теперь взгляните на это дело другими глазами. Вы оба студенты, учитесь в техникуме. И для нас важно, вернетесь ли вы сюда, к нам в поселок? Спору нет, вы оба вписаны в ордер, и вы, Анна Борисовна, вправе претендовать на то, чтобы ордер был переписан на ваше имя. Но… И вот здесь начинаются «но». Квартира у вас какая? Трехкомнатная. Площадь? Тридцать три и семь десятых метра. А семья у вас? Два человека. Вы просто не имеете права вдвоем занимать такую огромную площадь. Кроме того, вы учитесь. Живете не у нас, а в Свердловске. Значит, здесь впустую пропадает не только жилье, но и приусадебный участок, огород, сад, сарай, сеновал, конюшня. Заметьте, для нашего заводского поселка это немаловажное обстоятельство – свой огород, свой сад. Поэтому что мы вам предлагаем? Мы предлагаем вам отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Взамен вашей. В новом микрорайоне. Чем вас не устраивает такой вариант?
– Скажите пожалуйста! – возмущенно привскочил со стула Кольша. – Мы что сюда, торговаться пришли?! Или вы думаете, что нас можно, как пятилетних, уговорить на что угодно? А вообще-то здорово вы тут сработались… Вы хоть знаете, что нам сначала предлагал ваш Шляпкин?
– Кто?
– Шляпкин… Фу, черт, не Шляпкин, а этот, как его… начальник ЖЭКа… Шляпников!
Глебов вдруг от души, весело рассмеялся:
– А, Шляпников! Фрол Данилыч! Ну и что же, что?
– А то, что когда у Анюты мать умерла, он уже на третий день тут как тут с дурацким своим предписанием – на основании того-то и того-то вы обязаны в двухдневный срок освободить квартиру и занять комнату по улице Розы Люксембург.
– Неужели? – смеялся Глебов.
– А вы будто не знаете? – язвительно усмехнулся Кольша. – Он, видно, совсем из ума выжил, этот ваш Шляпников! Ведь полнейший болван, а вы его держите… почему? Да потому, что вам выгодно негодяя под руками держать: чуть что – можно все на него свалить.
– Шляпников, конечно, человек с… замашками недалекого прошлого, но что поделаешь, – перестал смеяться Глебов и даже вздохнул, – пока ему нет замены. Никто почему-то не соглашается работать на его месте.
– И, значит, ему можно делать все что угодно? Так любую незаконность и подлость можно оправдать его гадким и вздорным характером, его холуйскими склонностями! Я ему показал комнату!.. Взял его за шиворот и выбросил из квартиры. И что же? Через два дня притащился с маслеными своими глазами, оказывается, ошибся… не комната нам положена, а однокомнатная квартира. На той же самой улице, Розы Люксембург. Вот подлец!
– Ну, это уж вы слишком… – Глебов смотрел на Кольшу немного странным взглядом: то ли восхищался его безрассудной откровенностью, то ли жалел его за эту, в общем-то, не всегда безопасную смелость характера.
– А чего слишком-то? – не унимался Кольша. – Вот смотрите, сегодня пришли – а вы уже, оказывается, двухкомнатную предлагаете. Наши акции повысились. Разве не интересно? Это же настоящий торг идет, да торг-то – фальшивый.
– Фальшивый?
– Фальшивый. Потому что, во-первых, нас не двое, а трое. Справочка такая имеется от врача. Видите Анюту? Во-вторых, зачем же нам двухкомнатная, когда нам по закону принадлежит трехкомнатная? И, значит, дел-то всего – переписать ордер с матери на дочь. Только и всего. А что там сад, огород или что мы учимся, тут никому никакого дела быть не может. Мы чужого не просим, а вот свое у нас отобрать хотят. Причем незаконно.
– А площадь вам такую, между прочим, иметь не положено, – улыбнулся Глебов. – Даже и на троих. Тридцать четыре почти метра – это уж слишком, вы не находите? Придется подселять жильцов. И где вам будет лучше – в трехкомнатной с жильцом или в двухкомнатной отдельно?
– Нам, Сергей Сергеевич, будет хорошо в своей трехкомнатной, без всяких жильцов притом. Девять на три умножьте – сколько будет? Двадцать семь. Сколько остается? Шесть и семь десятых метра. А закон-то знаете? Если излишки меньше нормы на одного человека – за них просто дополнительно платить полагается, для подселения-то метров недостаточно. Знаете такой закон?
– Вы, я вижу, народ действительно грамотный, – продолжал улыбаться Глебов. – Это приятно. Честное слово, приятно иметь дело с людьми знающими. Но скажите все-таки откровенно – зачем вам, молодым людям, такая огромная квартира? С садом, с огородом, с сараем, с сеновалом? Неужели вы намерены возиться в огороде? Неужели будете пользоваться ну хоть сеновалом? А?
– А это, Сергей Сергеевич, как уж наша жизнь сложится. Все может быть. Вам ведь главное что? Вам не надо грех на душу брать, нужно наложить справедливую резолюцию – «не возражаю».
– Нет, не могу подписать, – с тем же спокойствием, с каким в первый раз сказал об этом, повторил Глебов, простовато и хитро улыбаясь-усмехаясь как бы даже и над самим собой.
– Почему? – Кольша смотрел на Глебова уничтожающим взглядом.
– Не имею права.
– Не имеете права справедливо поступить?
– Не имею права нарушать наши порядки.
– Что же это за порядки, если они заранее противоречат закону?
– Закону они не противоречат. Если мы неправильно поступим, закон нас поправит, но обижать заранее рабочих завода – не в наших правилах.
– Ага. Значит, чтобы обеспечить жильем рабочих, вы не жилищное строительство расширяете, а незаконно выживаете из квартир ненужных вам людей, ну хоть нас, «бедных» студентов?
Глебов рассмеялся, как-то радостно, одобрительно покачивая головой:
– Мы и строительство расширяем, и изыскиваем все другие возможные пути. Вас же не на улицу выгоняют, вам предлагают отличный вариант. Вариант, кстати, который должен вас устраивать по всем статьям.
– Ни по одной статье он нас не устраивает, – жестко ответил Кольша.
– Ну, что же… – Глебов спокойно протянул руку к заявлению, снял колпачок с авторучки. – Вот здесь я вам пишу свою резолюцию: «По существу заявления отказать. Взамен трехкомнатного особняка обеспечить немедленно двухкомнатной квартирой со всеми удобствами. Зам. директора Глебов». Пожалуйста, – и протянул Ане заявление.
На лице у Ани проступили блекло-желтые пятна.
– Теперь вы отправитесь в суд? – Глебов смотрел на них с легким подтруниванием.
– Конечно! – выпалил Кольша.
– Желаю успеха, – улыбнулся Глебов, и бесконечная его улыбчивость и доброта ровного, спокойного тона действовали сейчас раздражающе.
– До свиданья!
– Знаете что… – вдруг сказал Глебов задумчиво, когда они уже встали и хотели уходить. – А ведь я, Анна Борисовна, очень хорошо знал вашего отца.
Эти совсем неожиданные для Ани слова с какой-то особой болью и обидой отозвались в ее душе, она ослабленно опустилась на краешек стула, верхняя губа у нее задрожала, а глаза налились тонкой слезной пленкой.
– И даже больше, – с грустью протянул Глебов, – когда-то я учился у вашего отца, в ремесленном училище. Человек он был… редкий был человек!
Это уж совсем с трудом слушалось Аней, горячая волна обиды, обиды непонятно на что и из-за чего, поднялась со дна души. Одно было хорошо – Глебов продолжал говорить, и эти минуты его задумчивого, тихого говора словно специально давали ей время на передышку. Кольша стоял в дверях, недоверчиво глядя на Глебова.
– Вы тогда, после войны, только-только из Свердловска приехали: Борис Аркадьевич, мама ваша, Нина Васильевна, и вы, Аня, тогда еще во-о-от такая… – показал рукой Глебов, и грустные его глаза осветились мягким светом. – В Свердловске Борис Аркадьевич в чем-то проштрафился, уж не знаю в чем, и приехал к нам. Учительствовать в школе отказался, пришел в ремесленное. Преподавал нам математику, историю и труд. Вот какое сочетание! – Глебов радостно, с какими-то тайно-горделивыми нотками в голосе рассмеялся. – Подзывает меня раз к себе: «Серега, – говорит, – ты мне вот что скажи, доволен ты своей жизнью или нет?» – и смотрит на меня серьезно так, будто я не пацан, а ровня ему. Я рот-то открыл, а сказать ничего не получается. – Глебов снова рассмеялся. – «Вот то-то и оно, – говорит Борис Аркадьевич и вздыхает при этом, – трудно на такой вопрос ответить. Самый трудный вопрос в жизни». Не знаю почему, но это я запомнил крепко, а многое другое, конечно, забыл. Вот такие дела…
– Ну, мы пойдем… – тихо сказала Аня.
– Да, – сказал Глебов, – я тут с воспоминаниями своими… не ко времени. Хотя, знаете, Анна, не сейчас, так когда еще вы сможете услышать эти слова об отце? К сожалению, все мы смертны. А любили мы его очень искренне.
– До свиданья, – как-то почти шепотом проговорила Аня.
– До свиданья! – с прежней жесткостью поддержал ее и Кольша.
– Ну что ж… – развел руками Глебов. – Не поймете – обидитесь, поймете – вам от этого тоже не легче. Довольными в жизни никто не бывает. Ваш отец хорошо мне это объяснил. До свиданья!