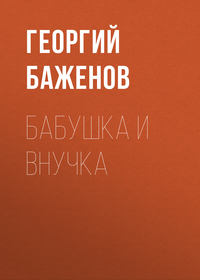Полная версия
Яблоко раздора. Уральские хроники
Но Лия не размышляла о Коле, а испытывала еще больший, чем он, страх. Но у нее хоть была надежда – Коля!..
А Коля, пятясь, еще сопротивлялся тихо, протестовал – но когда кастет острыми зубьями подносили к его подбородку,
Колю охватывал ужас. Он должен был шагнуть вперед, но шагал назад… Он только представлял, как шагнет вперед, драться с врагами – и тотчас почти физически ощущал удар кастетом, острыми зубьями, в подбородок… Когда он упадет, его будут бить еще… Какой смысл тогда, для чего тогда сопротивляться, шагать вперед? – никакого!.. Но ведь и уйти, вот так просто, трусливо пятясь, он тоже не может – и пока рассуждал, что не может, сам пятился… Он видел, что Лия все дальше и дальше от него, стоит рядом со Славкой, который никуда ее не пускает; как оставить ее одну? Ведь они могут такое натворить, такое натворить… чего только не могут натворить эти головорезы!.. Кровь стучала у него в висках, кулаки сжимались – а разум понимал, что он бессилен, слаб, бессмыслен в своей внутренней борьбе. Он должен был драться, но не дрался, потому что это бесполезно и для него и для Лии, в то же время он не должен был оставлять Лию, потому что оставлять ее одну ну никак нельзя, а он все-таки оставлял… Кажется, он уже не помнил и страха; только дикое, протестующее отчаяние – отчаяние, что бессилен, что мир так нелепо устроен, что никто его не поймет, а если и поймет, то не оправдает, а если оправдает, то не простит… Поймет ли Лия, простит ли?
Лия не простила… Больше никогда уже не ходила с Колей и, кажется, презирала его… Мать Лии, Надежда Тимофеевна, так и не могла понять, что произошло у них. Только в одном она была убеждена: Коля Смагин гораздо лучше многих других, а уж тем более – Славы Никитушкина.
Но кто знает, какие мысли, какое отчаяние и страх, какие вообще чувства испытала и пережила Лия, оставшись тогда одна?
Кто мог ее обвинять в чем-то?
Вспоминая свадьбу, Лия действительно вспоминала нечто другое, что видела, слышала, ощущала в то время. Только теперь она поняла истинный смысл шума во дворе, и поразила ее простая мысль: есть люди, которые любят ее по-настоящему. Не в том дело, что любил ее Коля, которого она любить никак не могла и которого даже уважать не смела, а в том, что она не умела разобраться, кто любит ее, а кто нет. Возможно, кроме Коли, она оттолкнула от себя еще не одного парня – а где они теперь? Никого нет, она одна. Одна…
Так проходили дни, кончался уже ноябрь…
Как вдруг однажды, будто от долгого сна, Лия очнулась и отчетливо поняла: что-то должно случиться… Если ничего не случится, если все будет идти по-прежнему, если не произойдет какого-либо взрыва и ее не встряхнет – она сойдет с ума, или умрет, или…
Надежда на случай, который, казалось, все может изменить, повернуть ее жизнь, заставить бороться за другую, более лучшую и счастливую долю, странно успокаивала и будоражила ее. Потому что, в самом деле, не может все идти, как идет, не может продолжаться, как продолжается…
Эти мысли не оставляли ее целый день, а к вечеру, когда пошла на работу, она была уже уверена, что или сегодня – или никогда… Что сегодня? что никогда? – она не знала. Что бы ни было – но сегодня или никогда…
Но прошел час, два, три на работе, мимо нее сотни людей пронесли свои чемоданы, десятки отправили обычные и срочные телеграммы, простучал колесами не один уже пассажирский поезд, случились тысячи маленьких и больших событий, – но ничто не имело никакого отношения к Лии. Все, что ни происходило, происходило само по себе и само для себя, а все, что было Лией, было отдельным, независимым, никому не нужным миром… Лия начала сомневаться в своих надеждах – и как только начала, так почувствовала себя в тысячу раз несчастней, чем была несчастна до того. Как будто отпуская в воду канат, стремительно уходящий вглубь, она отпускала свою надежду, но, спохватившись, вновь подхватывала канат, ободрала себе руки, но надежду задержала. Не быть с надеждой до конца, до последнего мига – просто невозможно, и снова, ободренная, сидела Лия за окошечком телеграфа и надеялась…
На солдата, сидевшего в углу, она не обратила поначалу внимания, но вскоре почувствовала, что кто-то пристально смотрит на нее. Она глазами поискала человека и встретилась взглядом с солдатом, он ей по-хорошему улыбнулся… Она рассердилась, нахмурилась, но сердце застучало живей, потому что – Бог его знает – может, это и есть случай?.. Когда во второй раз она встретила его глаза, то на улыбку ответила своей, неопределенной и смущенной… Но как только она улыбнулась, солдат перестал на нее смотреть: ему, верно, надо было увидеть ее улыбку – и все. Лия не верила этому, украдкой несколько раз взглядывала на него – но солдат был тот же: не обращал на нее внимания, думал что-то свое и пил глотками вино. Она глядела на него уже требовательно, раздраженно, пугаясь, что так и не посмотрит солдат снова, а он действительно не смотрел и, кажется, не собирался смотреть. Ему было скучно. «Что же он такой?» – думала она. Тогда гнев и требовательность она сменила на просьбу, – и он отвлекся от своего, увидел ее глаза: они были открыты и сердечны. «Что же ты такой?» – стояло в ее глазах. Но он, гордый, снова долго и упорно не смотрел на нее, а когда, наконец, посмотрел, когда, казалось ей, она вот-вот уже возненавидит его, он улыбнулся ей в открытую – и она тоже улыбнулась ему…
Дядя Евгения, Григорий Иванович Никитушкин, умер вовремя.
Глава восьмая
Поезд, наконец, привез Ивана Ивановича Никитушкина на место. Дорога показалась ему долгой, скучной, а хотелось приехать скорей и, если уж решился, поскорей и закончить со всем.
Выйдя из здания вокзала, он оказался перед единственной, ведущей в поселок, грязной ноябрьской дорогой. Глядя на нее, он стоял и как будто не решался – идти все-таки или не идти.
Он пошел дорогой вперед… Вскоре Иван Иванович оказался на небольшой площади, от которой в разные стороны разбегались три улочки. По которой пойти – он не знал. Он повертел в руках бумажку с адресом, похмыкал – и решил спросить у кого-нибудь, куда идти.
– А вот, милый человек, – приветливо объяснила первая же старушка, – сначала сюда пойдешь – видишь, во-он белый домик, после справа свернешь, после еще раз вправо – и сразу тебе Петра Великого улица… Тебе кого там?
– Никитушкиных.
– Григория Ивановича-то? Знаем, знаем… Помер, царство ему небесное, хороший жил человек… Небось, родственник какой? На похороны?
– На похороны, бабушка.
– Ну, иди, иди, милый…
И только было он отошел от старушки, только было зашагал по указанному пути – как вдруг, не успев и сообразить, в чем дело, бросился за угол первого же дома. Такой прыти он не ожидал от себя: кажется, прожил долгую жизнь, ничто уже не выведет из равновесия… «Ты спятил, старый, – говорил он себе, – ей-богу, спятил… Откуда ему быть здесь?..» Но чем больше вглядывался в солдата, идущего по дороге к площади, тем тяжелей билось сердце: сомнений не было – по дороге шел сын Женька. В то же время этого не могло быть, ну просто никак не могло – откуда он на Красной Горке? Что делает здесь? Ведь он дал телеграмму, что демобилизовался и вот-вот будет дома…
А Женя, неся под мышкой черный материал, свернул как раз в ту улочку, куда идти и отцу. «Тьфу ты!..» – обиделся Иван Иванович. Как вор, немного выждав, пошел он вслед за сыном. Тот иногда останавливался, посматривал по сторонам и шел дальше. Иван Иванович, выдерживая дистанцию, крался за ним. Около белого домика Женя присел на крыльцо, задымил сигарету, материал положил рядом. «Ишь, подлец, как дома расселся!..» Женя покурил, забрал материал и снова тронулся в путь; отец – за ним.
Около белого домика Женя свернул как раз направо, куда шагать и отцу. «Ну, я тебя выслежу! Я тебе покажу!.. Отец с матерью ждут – не дождутся, а он похаживает и покуривает… И где? Вот ведь в чем дело…» В самом деле, Иван Иванович поехал на похороны не сразу, все ждал, раз уж получили телеграмму, что сын вот-вот подъедет… Но так и не дождался, наказал только Марии, чтоб встречала как положено, чин-чином. А она рукой махнула: «Ладно указывать-то! Бабам на Высоком Столбу указывай… А тут тебе не указ! Понял?» Ладно, он понял, это она не поняла… Так он и уехал, вроде бы и рад, что встреча с сыном оттянулась, и вроде нет. И вот – на Красной Горке судьба свела!
А Евгений во второй раз свернул направо – и теперь, Иван Иванович видел это, определенно направился к дому Григория. Дом Григория можно было увидеть издалека, потому что около него толпился народ, ребятишки заглядывали во все щели; чинно, тихо переговариваясь друг с другом, в черных шалях стояли старушки. Евгений смело прошел мимо них к сараю, отворил дверь и скрылся внутри. «Подлец, как дома у себя!.. И хоть бы ему слово кто…»
Иван Иванович остановился вдали и начал думать: что делать? Люди, стоявшие у дома, заметили его и, видел он, начали потихоньку разговаривать меж собой: что за человек? не родственник ли? почему не подходит? может, позвать его?..
И вдруг Ивану Ивановичу пришло в голову: бежать, бежать отсюда, бежать пока не поздно!
Но ноги не двигались.
Он знал, что никуда не сможет убежать и не убежит…
Медленно он приближался к дому, и как будто не ноги слушались его, а он их слушался: куда приведут, туда и ладно. Старушки, дети глядели на него, он поздоровался.
– Никитушкины здесь живут?
– Здесь. А вы кто?
Он не ответил. Не обращая внимания на людей, начал ходить вдоль сарая. Он слышал, как в сарае, мерно и точно, тюкал молоток. Походил Иван Иванович около сарая и наконец нашел дырку – от выдавленного сучка.
Он пристроил глаз к дырке и начал глядеть внутрь, но пока глаз не привык, ничего не видел. Вскоре разглядел широкий стол, на столе крышку от гроба – обивал его черным материалом сын Женя. Делал дело Евгений как мастер, как будто только тем и занимался в жизни, что обивал гробы.
«Подлец!..»
Иван Иванович вновь походил было. «Ольга приехала или нет еще?» И все равно не мог решиться, как ни обманывал себя. «Нет, наверно. Не приехала еще. А может?..» Он подошел к двери и рванул ее на себя.
Сзади удивленно глядели и шептались уже…
* * *Самолет резко снизился и побежал по полю… Маше показалось, что он совсем убегает, – и, размахивая платком, крича что-то, она пустилась его догонять. Самолет стоял, урча вдали, и из него вышел на крыло странный человек в очках, с длинной белой бородой. Он глядел, как бежит Маша, и борода его развевалась на ветру; он не сказал Маше ни слова, когда она подбежала, – лишь подал руку и помог взобраться на крыло.
И они полетели…
И летели долго-долго, высоко над землей, проносились мимо облака, и оба не разговаривали… Даже если бы захотелось Маше говорить, все равно ничего не скажешь, потому что говорить нельзя и не о чем. Она, не зная, куда и зачем летит, в то же время ни минуты не сомневалась, что лететь надо… Вот, догнав поезд, они снизились, и старик-летчик, злорадно рассмеявшись, коснулся колесами шасси крыши одного из вагонов. «А-а… – догадалась Маша. – Это Ваня едет, догнали мы его. Ну, слава Богу…» Она вспомнила, что Ваня поехал хоронить брата, ее с собой не взял… Самолет взмыл вверх, и поезд остался внизу и сзади. «До свиданья, Ваня… я полетела…» Она вдруг тоже зло-радио рассмеялась – и летчик, повернувшись к ней, махнул белой бородой по ее лицу, подмигнул ей. Борода была мягкая, и Маша не обиделась на старика за бороду.
Потом начало темнеть, все больше и больше, и, чтобы, наверное, не разбиться, а остаться живыми, они полетели ниже над землею и видели ее близко. Вдруг среди какого-то квадрата черной земли желтым клином показалось внизу кладбище, и старик снова повернулся к Маше и что-то у нее спросил. А она не поняла, но кивнула, и тогда, прибавив скорости, самолет, как бешеный, закружился над местом – и покатилось, поплыло, поехало все в глазах у Маши. «Тише, осторожней…» – хотела она сказать, но не могла ничего выговорить. А старик, дернув какой-то рычаг, вдруг пропал из самолета, и самолет, носом точно на кладбище, стремительно пошел вниз… До земли осталось сто, пятьдесят, двадцать метров… пятнадцать, десять, три… – земля разверзлась, и какая-то длинная рука, подхватив самолет, рванула его в глубь земли. Мимо окон, которые от удара даже не треснули, понеслась черная глубинная земля…
Но и это все пропало. Маша, не помня, где старик с белой бородой, самолет, куда и зачем тянула ее рука, уже шла откуда-то из дальнего края, сама с протянутыми руками, на кладбище. Перед ней неожиданно из маленького обычного человека, лежащего в гробу, вырос огромный, с закрытыми глазами человек, вокруг которого большая и жалкая толпа копошилась и пыталась уложить его, такого большого, в маленькую могилу. Он не сопротивлялся, но и уложить его было нельзя.
Маша заплакала.
Плача, она увидела Ваню и нисколько не удивилась, что в одно и то же время он едет на поезде и стоит здесь, на кладбище, увидела она всех, кого уже мертвыми, а кого живыми, кто не любил ее, всю жизнь проклинал или считал, что в чем-то она виновата больше всех, хотя все люди виноваты во всем. А Григорий, сложив руки на груди, связанные веревочкой, никак не хотел идти в могилу и оставаться там один навсегда.
«Григорий, – сказала ему Маша, – я пришла проститься».
Все глядели на нее, а она ни на кого не глядела, но когда пошла, то вперед выступил Ваня и, расставив руки в стороны и вверх, как будто он взывает к Богу, закричал на весь свет: «Не пущу! Не пущу!..» Крик был громок, с болью, ужасен. И Маша послушалась его, остановилась, только вдруг она увидела, как Григорий улыбнулся ей и позвал ее. Никто не слышал его зова, не видел улыбки, а она услышала и увидела, и мягко, нежно отстранив Ваню рукой, пошла вперед.
«Зачем ты? – спросил Григорий. – Куда идешь? Ко мне? Навсегда?»
«Нет, – ответила Маша – Не хочу я к тебе. Ты мертвый. Только прости. Этого прошу».
«Ты прости. Это ты прости…»
«Нет, нет! – ты, ты прости…!»
«Но за что тебя? В чем ты виновата?»
«Григорий, – не слушалась она. – Прости…»
Григорий рассмеялся громко, теперь уже все видели, как он рассмеялся, и она побежала прочь. А он, не думая ни о чем, схватил Машу за руку и потянул к себе.
«Никого не буду прощать, – сказал он. – Никого. Кто меня простил?» – И тянул ее за собой.
Ужас охватил ее, она закричала:
«Пусти, пусти!.. Зачем я тебе?.. Не хочу!..»
«Идем, идем… Помнишь, как были вместе? Как было хорошо?..»
«Да пусти, пусти!.. О, страшно мне, страшно!..» – Она хотела плакать, но не плакала, хотела убежать, вырваться, но не могла ни вырваться, ни убежать.
«Ведь ты любила меня? Ведь говорила?! Говорила?! Или лгала? Лгала? Скажи же!..»
Маша задыхалась. Григорий спрашивал ее, а сам душил – и сил не было ни отвечать, ни сопротивляться; она чувствовала, что сердце вот-вот разорвется – и она умрет. Она собралась с последними силами, напряглась вся, рванулась – и почувствовала, как все-таки воздух прошел в горло, и услышала вместе с тем отчаянный свой крик…
Она проснулась.
Было тихо, спокойно, совсем обычная ночь глядела в окна. Не сразу еще согласилась в душе Мария, что все, что было, было лишь сном, но каким сном! Горячая, вся в поту, Мария лежала на постели и пыталась на чем-нибудь сосредоточиться, но не могла. Она лишь чувствовала облегчение, спокойную радость, что жива, что одна, что кошмар позади…
Иван уехал на похороны… она одна… Григорий умер… Скоро приедет Женя… Может, завтра? Может, может быть…
Она попробовала снова закрыть глаза и уснуть – но как только закрыла, так вновь поплыло перед глазами… Нет, решила она, сегодня уже не спать, не могу… Боже, страх-то какой!..
Она поднялась, включила свет. Этот день для нее начался во втором часу ночи.
***
– Здравствуй… – сказал отец.
Он стоял перед сыном жалкий, но и решительный.
– Здорово, батя! – усмехнулся Евгений.
Они шагнули друг к другу, отец крепко обнял сына.
– Ну – будет, батя, будет…
Они сели рядом и оба закурили. Каждый долго мял папиросу, продувал ее, делал гармошку; прикурили от одной спички.
Дверь в сарай отворилась, и белобрысый пацан, просунув голову, тихо позвал:
– Дядя Женя-а!..
– Ну? Чего надо?
– Дядя Женя-а… скоро будет готово?
– Будет, будет… иди давай…
– Там спрашивают…
– Иди, говорю… будет, скажи. Скоро будет готово.
– Так и ска-азать?.. – Но ответа не дождался, закрыл дверь и пропал.
О чем говорить, ни отец, ни сын не знали.
– Так… – протянул Иван Иванович. – Значит, ты здесь… – И криво усмехнулся. – Может, скажешь, сын, каким ветром занесло?
– Каким… – протянул сын. – Обыкновенным.
– Каким таким обыкновенным?
– Да так, ехал вот домой…
– Ну?
– Ну-ну! Ехал, говорю… дай, думаю, заеду…
– Именно сюда?
– Почему именно сюда? – Он тоже сделал упор на «именно». – А вообще – именно сюда. Чего особенного?
– Да оно ничего, конечно… – согласился отец. – Пить, что ли, так стал?
– Как?
– Как… отстал вот.
– Э, батя, это мое дело… Тоже, поди, ждал, пока приеду? Охота выпить-то?
– Тоже верно… не против.
Они улыбнулись друг другу, и вроде сделалось легче.
Дверь снова открылась – и тот же белобрысый парнишка, вытаращив глаза, прошептал:
– Дядя Женя-а… ждут они. Только не ругайтесь!
– Ладно, не буду… Подь сюда!
Паренек недоверчиво поглядел на Женю, помотал головой.
– Иди, иди… не бойся.
Осторожно, боясь не Жени, а крышки гроба и черного материала, паренек на цыпочках подошел к Жене.
– Чего-о? – прошептал он тихо и подставил ухо.
– Вот чего! – Женя щелкнул ему в лоб и рассмеялся; щелчок был слабый, но звонкий.
Паренек пулей выскочил из сарая, но, пересилив себя, вернулся.
– Эх, дядя Женя-а… – сказал он разочарованно и влюбленно. – Грех это… Неужто не знаете?
И снова пропал.
– Что еще за пострел? – спросил отец у сына.
– А Бог его знает, здешний чей-то… Их тут много, всех не запомнишь…
– Ну а у кого хоть ты – знаешь?
– Как у кого? У Никитушкиных! – словно о чем-то само собой разумеющемся ответил он.
– Так… у Никитушкиных, значит… – протянул Иван Иванович. – Интересно…
– Еще как!
– Никитушкин, значит… Так… – раздумывал Иван Иванович. – Ну а я-то, как думаешь, чего здесь делаю?
– Тебя спросить надо.
– Нет, ты-то что думаешь?
– Ну что, – начал сын, – ничего…
– Ну а все-таки?..
– Ну, родич тебе, мертвый-то… – И добавил: – Давай, батя, без этих… начистоту. Григория Ивановича хоронить приехал?
Иван Иванович помолчал, затянулся долгой затяжкой и напрягся весь как струна.
– Его.
– Кто он?
Еще помолчав, отец как-то нелепо соврал:
– Сирота он.
– Сирота? Что за ерунда?..
Дальше Иван Иванович обманывал уже с воодушевлением:
– Обыкновенный сирота… Отец и мать, твои дед и бабка, взяли его на воспитание… Рос он вместе со мной и сестрой. А в 15 лет вдруг сбежал, написал, что, мол, нашел родных мать и отца… Лет через десять только узнали мы, что живет он здесь, на Красной Горке…
Дверь неожиданно распахнулась, и в сарай, плохо видя со света, вошла Ольга Ивановна Никитушкина, теперь Иванова.
– Женечка, ты здесь?! Мне сказали, что ты уже приехал. Боже мой, какое горе! Боже мой!..
Она не спросила, когда и как приехали на похороны брат и племянник, не сказала, когда приехала и сама. Это было теперь не важно.
– Тетя, а Григорий Иванович – кто он? – спросил Евгений.
– Как кто… милый ты мой… – запричитала Ольга Ивановна. – Бра-ат… брат наш… Гришенька…
– Родной брат?
– Женечка-а… не сты-ы-ыдно-о… тебе-е… – убивалась Ольга Ивановна. – Какой же еще? Родной, родненький, самый кровный… Гришенька наш родной… золотко наше… Горе, горе-то какое…
Глава девятая
Еще не успел поезд стать, еще упаковывали пассажиры чемоданы, а Слава, расталкивая людей, бежал к выходу. В окно, взглянув на дорогу, ведущую на кладбище, он увидел далекую, редкую вереницу людей. Кладбище стояло в стороне от поселка, к нему, петляя, вела отдельная дорога. По этой дороге, кроме как хоронить кого-то, люди не могли идти, и он сразу все понял… Выскочив из вагона, он бросился напрямую, через снег и поле, к дороге; снег набирался в сапоги, он увязал в нем, кричал что-то, но никто не слышал его… Он остановился, прикинул взглядом и догадался, что если поднажмет, то успеет… Не глядя вперед, только под ноги, он ринулся вновь через снег, туда, к похоронной процессии. Все-таки его ждали… думал он лихорадочно… ждали. Действительно, ждали его долго, решиться хоронить отца без единственного сына никак не могли, но прошли уже все сроки, 3-е уже декабря – а Славы все нет. Делать было нечего…
Он, наконец, остановился, чтобы хоть немного передохнуть – и увидел теперь с облегчением, что успеет. Совсем близко была дорога, а по той дороге, близко от него и от кладбища, двигалась похоронная процессия… Он различал уже лица, хотя кто есть кто – толком еще не мог разобрать. Да, теперь он успеет… Он видел, как дорога, образовав петлю, затянула из людей узел; узел этот шевелился. Как будто все, кто был там, охвачены единым узлом, притянуты накрепко друг к другу, но, словно боясь этого, люди шевелились каждый в свою сторону, одни уходили уже вперед, выскользнув из узла, другие оставались в нем, третьи еще только входили.
Когда Слава догнал их, то из задних рядов кто-то улыбнулся ему, махнул рукой, но чем дальше вперед, к отцу, тем серьезней, суровей шли люди – а у самого гроба люди были непроницаемы.
Он прямо пошел к отцу, глядя в его лицо, но не узнавал его. Ему казалось невероятным, что в родном отце ничего знакомого, родного, живого не видит он, такого не может быть… Он несколько раз оглянулся по сторонам, как бы ища у кого-то поддержки, но даже если и была она в ком-то, в чьих-то глазах, все равно не увидал он ее – потому что совсем ничего не видел вокруг. Теперь, как никогда до того, он ощутил себя очень серьезным, взрослым, даже старым совсем человеком, а понимания, мысли, идеи: что это? зачем это? почему это? – не было в этом старом молодом человеке. Он чувствовал, что горе пришло к нему, а осознать и понять его – не мог, не хотел мочь.
Кажется, он даже мешал кому-то… Кто-то ласково и дружески взял его за плечо и показал глазами на полотенце: возьми, мол, так будет удобней. Он понял. У кого-то перехватил белое вафельное полотенце, уперся в него спиной и узнал, что от отца, кроме огромной, режущей плечи тяжести, теперь ничего не осталось.
Так он шел. Он устал, но не замечал этого, заметили другие. Его сменили, и когда он отдал полотенце, то почувствовал плечом удивительную легкость морозного воздуха.
Еще прошло немного времени – и пелена непонимания начала медленно сходить с его глаз. Он уже и понимал, и видел, что вот рядом кладбище, отца сейчас закопают, могила, конечно, готова… Начал и различать людей… Вторым за отцом человеком, которого он разглядел, была Лия, он поглядел на нее, она на него. Всё. Потом он увидел, всю заплаканную, Надежду Тимофеевну. Потом узнал в толстой, укутанной в теплое женщине – тетку, Ольгу Ивановну; рядом с ней шел и вместе с другими нес гроб ее муж, Николай Степанович… Узнал Слава и многих из тех, кто работал вместе с отцом в депо. Но вот кто такие двое, очень похожие друг на друга и в то же время чем-то отдаленно напоминающие отца, двое, которых никто еще не сменил и которые, было видно, по полному незыблемому праву провожали отца в последний путь, кто эти двое, Слава не знал.
Как не знал многого из того, что знали уже другие, как не знал почти ничего, что знать должен был…
Впрочем, что отец умер, он знал.
Встречи – расставания
Глава первая
Петровна была в сенцах, когда вошел милиционер:
– Здравствуйте. Вы будете Александра Петровна Симукова?
– Я самая и есть. Здравствуйте. – Петровна настороженно пошарила по карманам фартука. – Да вы проходите, проходите, у меня тут… уборку вот затеяла: все вверх дном…
– Что же вы, Александра Петровна, – с укоризной начал милиционер, проходя в дом, – не выполняете указаний администрации?
– Это какие указания? – Петровна выставила перед милиционером табуретку, смахнула с нее пыль. – Присаживайтесь, в ногах правды нет.
– Ну, как какие… – Садиться на табурет старшина не стал, а сразу прошел в большую комнату, по-хозяйски окидывая ее взглядом. – Домишко ваш снесли?
– Снесли, слава Богу, снесли…
– Ну вот… Теперь, стало быть, что из этого следует? – Старшина рассматривал на стене вышитый гладью Кремль. – Добрая работа.
– Да куда там… – смутилась Петровна. – Баловалась в девичестве.
– Добрая… – Старшина постоял, полюбовался картиной. – А слушаться администрацию все-таки надо. – Милиционер улыбнулся Петровне. – А?