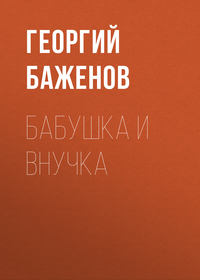Полная версия
Яблоко раздора. Уральские хроники

Георгий Баженов
Яблоко раздора. Уральские хроники
I
Яблоко раздора
Памяти Любови Баженовой
Глава первая
Иван подымался в дом по высокому крыльцу осторожно и тихо. Он старался, чтобы снег не скрипел под сапогом, но снег скрипел. Назло скрипел, думал Иван.
Не успел он переступить порог, как Маша, жена, метнулась в большую комнату.
– Маша! – позвал Иван.
Маша не ответила.
– Маша! – уже крикнул он. – Жена!
Она вышла из комнаты, скрестив на груди руки, и с гордой независимостью посмотрела на мужа.
– Ты чего прячешься? – спросил он.
– С чего это ты взял?
– Да вот, как зашел – ты и метнулась, а потом зову, зову – не отвечаешь… – Он пристально и серьезно разглядывал жену и старался угадать, случилось все-таки что или нет. Он и домой пришел, потому что дважды за день схватывало внутри от беспокойства.
И все же решил не торопиться с расспросами, разделся, прошел на кухню, помыл руки, сел за стол:
– Накормишь?
– Сам накормишься!
– Накормлюсь, не без того… – Он обиженно запыхтел, догадываясь, что и смелость эта неспроста, есть для того причина.
Маша стояла, опершись на косяк, все так же скрестив на груди руки, и, презрительно оттопырив нижнюю губу, смотрела на мужа:
– Что, она-то плохо тебя кормит?
– Кто – она?
– Да она! – твердо сказала Маша. – Ведь ходит к тебе в лесничество какая-то?
– А… – неопределенно протянул Иван, а про себя подумал: «Тебе можно было, а мне нельзя?..»
Налив щей, он начал хлебать.
– Телеграммы тут принесли, – словно невзначай сказала Маша.
– Телеграммы-ы?.. – Он поднял на жену как будто радостные и озорно-шалые, а на самом деле испуганные, в глубине, глаза, криво улыбнулся.
– Сын приезжает, демобилизовался! – Она сказала это с твердой и открытой радостью.
«Вот оно что-о! Вот что-о!..» – Искреннее и легкое счастье скользнуло на лицо Ивана.
– А эта, – показала жена, – видать, от сестры твоей! Срочная! – И бросила мужу телеграмму. – Не бойся, не распечатывала. Мне ведь нельзя, – сказала она с издевкой, – вмешиваться в ваши родственные дела!
Отложив ложку, Иван нагнулся, поднял с пола телеграмму, распечатал.
28 УМЕР ГРИГОРИЙ ПОХОРОНЫ 1 ДЕКАБРЯ ОЛЬГА
Он прочитал раз. Прочитал два.
«Значит, умер… умер… Ты скажи…»
– Дай телеграмму от сына, – попросил он Машу.
– Это еще зачем?
– Дай. – Он не знал, зачем.
Маша принесла из комнаты телеграмму.
СТАРИКИ ДЕМБЕЛЬ БУДУ СКОРО ЕВГЕНИЙ
Иван читал, но думал свое: «Умер Григорий-то… ты скажи… Умер все же… Верно, что старики… уж тут полный дембель, полный…»
Он сидел, смотрел в окно и мял губами. Со стороны казалось, что он думает сейчас крепкую думу, но ничего такого он не думал, просто сидел и повторял про себя: «Умер… скажи на милость… вот уж дембель так дембель. Полный дембель…»
– Григорий умер, – сказал он Маше.
Вечером он сходил за водкой, сел дома за стол, налил две стопки:
– Выпей, Мария.
Жена подошла и покорно выпила.
– А теперь уйди.
И она ушла, и было так, словно нет ее в доме, незачем быть. О многом мог думать теперь Иван Никитушкин, многое мог вспомнить, да не о том дума. Умер брат Григорий, нет его больше. Простить его или не простить?.. Нет, даже и не в этом дело – кому надо прощать мертвых, кому это надо! Дело проще: ехать хоронить брата или не ехать?..
Глава вторая
Дорога, по которой шагал Григорий Никитушкин, не простая дорога. Вьется да петляет она к родному поселку, в котором не был сержант Никитушкин с самого начала войны, с самого начала ее, проклятой… Прихрамывая на правую ногу, Григорий почти бежал. Августовское солнце палило жаром, пот катился по лицу, по спине, но это ничего. Скорей бы домой, домой…
Он вбежал в дом, сильно хлопнув дверью, и кто-то ойкнул испуганно.
– Мир дому сему! – весело сказал Григорий и прислушался. – Есть кто дома?
Стояла тишина. Григорий улыбнулся; знал он: если такая тишина, обязательно в доме человек (от разведки еще осталось).
– Стрелять буду! – пошутил Григорий. – Ну!
– А я и дома, – вышла из кухни полная девочка. – Вам кого?
– А ты кто такая?
– Машенька я.
– Чего тут делаешь?
– Нет, сначала – вы кто такой?
Григорий не сдержался – такого смеху и веселья закатил, что соседка, через огороды, перекрестилась: «У Никитушкиных-то чего такое? Свят, свят!..»
– Я – Никитушкин! – объявил Григорий.
– Григорий Иванович, стало быть? – облегченно вздохнула девочка.
– Стало быть, Григорий Иванович.
– Напугали вы меня, – как-то просто созналась девочка. – Зачем так пугаете?..
– Да ты скажешь, наконец, кто такая? – Но уже не грозно спрашивал Григорий Иванович.
– Машенька я. – И очень важно добавила: – Жена я Ивана Ивановича.
– Это какого еще Ивана Ивановича?
– А как будто не знаете? Братца вашего, Ивана Ивановича Никитушкина.
– Ваньки? Жена? Постой, постой… как жена? Ваньки? Сопляка этого? Да вы что, с ума спятили?! – И вновь закатился, но теперь уже обидным смехом Григорий Никитушкин. Он был тощий, длинный, и, когда смеялся, смешно было над ним самим: как жердь, вот-вот сломается, стоит, кланяется, руками размахивает.
Машенька тихонько прыснула.
А перед глазами Григория встал – сколько ему тогда было, двенадцать, тринадцать? – Ванька: всклокоченный, сопливый… И этот вот сопляк, этот его младший брат – Иван Иванович теперь? Муж? Жену – девчонку! – заимел? «Ну, братцы, – думал Григорий, – вы что хотите думайте, а я… А я – ни хрена-то я не понимаю, вот что, братцы!»
И так вдруг резко оборвал свой смех Григорий, так круто смолк, что снова напугал Машеньку.
– Какой вы… – сказала она. – Все пугаете…
– Да что ты заладила: пугаете да пугаете… – Он нагнулся, поправил голенища сапог, а выпрямившись, спросил: – Хозяева скоро будут? – И с тем прошел в дом.
– Хозяева? A-а… вы, верно, про свекра Ивана Федоровича говорите? Так они совсем не придут, Ваня только будет… Мы с Ваней вдвоем тут живем. Да вы проходите, проходите, поди, не в чужой дом-то пришли! А Иван Федорович навсегда в лес ушел, там и поживают. Тут, говорят, скучно, да и… – Она запнулась.
– Да и?
– Да и мы… я, то есть… не очень ему по душе. Это правда. Только Ваню-то он сильно, кажется, любит… Тогда, говорит, живите с ней, мне не жалко, теперь, говорит, ничего не жалко – все под гору. Вот и живем… А Ваня скоро уже будет. Скоро!.. Хотите чайку?
– Хочу.
– Так я сейчас, сейчас… Я мигом.
И только было он пить начал горячий, на смородиновом листе настоянный чай, только было посидеть вздумал, побаловаться, как говорится, чайком, подумать размеренно – ан открывается дверь, а в дверях – да неужели брат, неужели Ванька, Иван?.. А ведь он, он, шельмец, только все в нем – как будто чужое: рост, плечи, голова…
Бросились братья друг к другу! Родное, кровь своя, никитушкинская, отчаянная кровь билась в жилах и вот – стакнулась. Эх, брат, брат! – шептали они и хлопали друг друга нежно и сильно по плечам. Улыбались, смеялись… А ведь они, когда прощались, совсем были не те: оба мальчишками прощались, оба, хотя Григорий уходил на войну…
– Ну а отец тут как? – Григорий отстранил брата и глянул ему в глаза: – Ишь ты какой ста-а-ал!..
– Да отец чего, – улыбался Иван, – отец ничего… Прийти вот обещался. День рожденья ему сегодня. Придет!..
– Ну?! Неужто день рожденья? Неужто сегодня?
– Сегодня, – сказал Иван и снова улыбнулся. – Сегодня и есть.
– Тогда хорошо я прибыл! Ох как хорошо! В самую, как говорят, точку!..
Сидел Иван Федорович Никитушкин против двух сыновей и снохи, смотрел на них спокойным глазом. Детей давно уже хмель взял, а Ивана Федоровича медовуха не брала. Что думать ему про сыновей? Что сказать себе? Любит он их?.. Иван-то бы еще ничего, ничего еще, но женился, дурак! На ноги не встал, крыльями хорошенько не взмахнул, бабу ни одну не попробовал – а туда же: полез в хомут, сам, осьмнадцати лет. Дурак!.. О Григории вовсе нет разговора – это отрезанный ломоть, увидишь! Урал-сторона ему уж не в родину, дом родной не в дом, куды-ы!.. Уехать надумал куда-то, и-ишь!.. Да-а… Ну а Ольга с женой – те бабы. Как уехали в сорок четвертом, так и живут с балбесом зятем, у черта на куличках. Да они – хоть пропади пропадом, черт с ними! С бабой царства не построишь, сети не сплетешь; лишние бабы люди! Нашто живут на свете? Рожать? То-то, что только… А уж о снохе говорить, так вовсе одно слово: соплюха!..
Вот что думал Никитушкин-старший, пока сыновья пьянели; думал он об этом спокойно, без напряжения, так что не поймешь – то ли просто сидит, слушает, то ли думку какую задумал…
– Ну, я, значит, и притаился, жду… – Прислушался отец к рассказу Григория. – Да что ты, думаю, оглохли они, что ли? И ведь самое странное – вижу, как сидят они, трое, в блиндаже, смирненько, спокойненько: один книжку читает, другой портки штопает, а третий – Маша, ты не слушай! – баб голых в журнальчике рассматривает. Не задание, пальнуть бы пару раз! Но нельзя: «язык» – он тогда «язык», когда живой… А погода стоит – прямо не верится. Одно солнце! Сначала это еще ничего, с утра, не жарко, а потом как начало припекать, пот градом… А ты не шевелись! А какой там не шевелись, если я стрелял даже, а они как глухие…
Григорий обвел всех взглядом. Старик Никитушкин и Иван слушали с интересом, но как бы и с недоверием: Григорий в разведке служил, это точно, но уж больно странный случай… А Маша верила всему. Подперев лицо кулачками, она глядела на Григория не отрываясь и слушала с восхищением. Григорий не походил на героя, длинный, тощий, смешной, но был, видно, настоящий герой. Не то что мы, думала Маша, жили здесь, ничего не видели…
– На войне, чуть не на передовой, в блиндаже, – продолжал Григорий, – сидят фрицы, ничего не слышат и не боятся? Не может быть!.. Думаю я так, а сам снова подымаюсь – ив дверь. Стою в проходе, автомат наготове, и ору: «Хенде хох!» Даже не шевельнулись. «Хенде хох!» – ору изо всех сил. А фриц, который голых баб рассматривал, как заулыбается… Повертывается, чтобы, видно, дружку своему показать…
Маша неожиданно вскрикнула.
– Тихо, Маша, – сказал Иван.
– …и видит: в дверях, с автоматом, стоит русский солдат. Он аж онемел! Бац, дружка своего по руке, тот спокойно оборачивается, увидал меня – и тоже окаменел. И третий так же. Стоят, рты разинули, руки подняли, глазами хлопают… – Григорий усмехнулся. – Привожу, значит, на позиции, сдаю фрицев начальству. День проходит, два, я жду: вот-вот, мол, вызовут к командиру батальона, к награде представят… А по батальону уже слухи ползут: Гришка, мол, Никитушкин, спятил… поймал где-то глухонемых фашистов и приволок…
Григорий не выдержал и рассмеялся. Он смеялся так заразительно и искренне, что напряжение от рассказа спало; засмеялся и Иван. А Никитушкин-старший подумал: правда, дурак он, Григорий… Одна Маша не знала, то ли смеяться, то ли слушать дальше, то ли спросить чего-нибудь… С напряженным, вытянутым вперед лицом глядела она на Григория Ивановича.
– А ведь верно, – закончил Григорий, – оказались они глухонемыми. Ха-ха-ха!
Долго еще сидели, вечеровали… Нет-нет, среди разговоров, да и вспомнится Григорьев рассказ: снова смех, легко…
Утром нежно толкнули в плечо: вставай… Григорий не просыпался. «Вставай же, Григорий, вставай…» Голос был тих, но настойчив. Григорий открыл глаза.
– Кто это?
– Я… Иван.
– А-а… – Григорий потянулся. – Я сейчас, Ваня… мигом…
– А то можешь спать. Выспись. После придешь…
– Не… я с вами! Ты иди, я сейчас…
Как не хотелось вставать!
Григорий вздохнул, скинул с себя одеяло. Быстро оделся, пошел на кухню, умылся. И как умылся, так стало свежо и, кажется, легче.
– На вот! – сказал Иван и подал стопку.
– А ты?
– Я по утрам не хочу. Не могу.
– Это пройдет. – Григорий выпил медовуху. – Пройдет, – и улыбнулся.
– Не знаю. Я пить не собираюсь, незачем это. Баловство.
Иван собирал в сумку кой-что из еды, двигался по кухне
осторожно и мягко, чтобы не разбудить Машу.
– Однако пойдем… Отец давно ждет.
Они вышли из дому.
С востока подымалось уже солнце. Влажный белый дым клубился с трав, ввысь, к чистому и синему августовскому небу.
Старик сидел лицом к солнцу. Теплый свет несколькими лучами разрезал туман и согревал морщины старика.
– Здорово, отец! – сказал Григорий.
– Здорово, коли не шутишь.
Григорий вспомнил вчерашнее упорное молчание отца и понял, что тот как будто не доверяет ему в чем-то.
– Ну, пойдем, што ли? – Иван потянулся, зевнул. – Чего время терять?
– А пойдем, пойдем, – согласился Иван Федорович и поднялся с бревна.
Вскоре они оставили поселок, вошли в лес. Дорога звала в гору, гор здесь много, но эта дорога – на самую высокую гору, где на вершине, как каланча, дыбится Высокий Столб. Сюда из своей избушки и забирается Иван Федорович, но теперь, правда, все больше помощник, сын Иван, забирается, чтобы видеть далеко кругом широкое лесное богатство.
Григорий ушел вперед: не стерпеть ему хозяйского медленного шага отца и брата. Как давно он не был в этом лесу! Как давно не вдыхал запахов этих!..
За полчаса добрался он до Высокого Столба, действительно очень высокого, но шаткого, почерневшего от времени деревянного крупнобокого строения. Долгая ненадежная лестница извивается, как змея, вверх – и по ней, не раздумывая, устремился Григорий ввысь. Он взбирался долго, закружилась голова, устали ноги, но он спешил, скорей туда!..
И он – наверху. Родная сторона, но как будто величественней, чем раньше, открылась ему. Он закрыл глаза и ощутил, – так плавно закружилась голова, – что живет на земле, которая беспрестанно вертится, движется… Он открыл глаза – и мир остановился. Теперь, чтобы видеть вокруг, он сам должен медленно поворачиваться…
Он увидел сначала, что маленький, с игрушечными домами и улицами поселок, в основе своей, залег в низине, меж гор, Уральских гор; лишь южной своей окраиной он, как упорное и живучее животное, пополз в горы, достиг в одном месте вершины, а несколько улиц даже перешагнули вершину и спустились на другую сторону гор. Именно по эту сторону, в еще большей низине, лежал голубой утренний пруд. В пруду кишмя кишит рыбы – и заныло рыбацкое сердце Григория. Он поклялся в эту минуту, что сегодня же вечером отправится на рыбалку, лодка у отца есть. Пойду, думал он, поначалу на Северушку – во-он она!.. – гольянов наловлю, а потом гольяна – на окуня, на щуку, на них, окаянных! И уже слышал Григорий, как потрескивает в ночи костерок, как побулькивает варевоуха, запах почуял, тонкий и далекий, наваристой ушицы!..
А пруд, огибая одну из гор, соединял две низины, только северная его часть, та, что лежала с поселком в одной чаше, была много меньше южной. Около этой-то, северной его части, пристроился небольшой металлургический завод. Три трубы – раньше одна была, значит, две появились во время войны – дымятся белесым дымом; и даже этот дым, в общем, вредный, Григорий воспринял с тихой радостью. Он пошарил глазами по территории завода и с облегчением увидел, как снуют по веткам крохотные паровозики, и улыбнулся. И подумал: здесь и буду работать, машинистом, никуда, как надумал, не поеду, чего тут не хватает? Нет, здесь, только здесь. Навсегда…
С этой мыслью продолжал Григорий разглядывать родину и вбирал в себя, как дым папиросы, легкое счастье…
Лес вокруг шумел и растекался в иных местах до горизонта. Он стоял то дремучий, густой, темный, то редкий, светло-зелено-желтый – от берез; то горячий, почти как угли, – от осин, которые, собираясь по осени вместе, пылали заревом; то тихий и скромный – там, где елочки, под которыми весело набрать молодых упругих рыжиков полную ведерную корзину; то строгий, строевой сосновый… И видит Григорий, как ходят люди, а машины ездят – по поселку; видит, чувствует огромную напряженную работу завода; видит и лодки, плывущие по пруду; видит – справа, в низине, через поле ржи вьется коричневая дорога, по которой идут на Северушку, на рыбалку, ребята; и многое, многое еще видит Григорий – но ни один звук, кроме шума леса, не слышит он! Все тонет в плотном – ночью страшном – говоре леса…
– Э-э-эй! – кричат Григорию снизу. – Э-э-эй!..
Он смотрит сверху: до чего же крохотны отец и брат.
– Ого-го-го-о!.. – кричит он в ответ.
Глава третья
Евгения Никитушкина, демобилизованного солдата, из Сибири на Урал вез поезд; это был обычный, пассажирский поезд. Покачиваясь, плыли в окнах то леса, то озера и реки, то в каком-нибудь поле все обрывалось, поезд долго стоял и пронзительно свистел. Проносился навстречу скорый…
Попутчики оказались неинтересные: две строгие, в очках, женщины и мужчина-юрист. Вначале Евгений приглядывался к одной женщине, которая, сняв очки, становилась мягкая и добрая от круглых щек, но потом, по слишком уж официальным: «Светлана Петровна, вы пойдете кушать?» – «Нет, Павел Иванович, я попозже…», вдруг понял, что Светлана Петровна и Павел Иванович – это муж и жена, только ехали они, кажется, разводиться.
«Пижоны несчастные!»
Другая женщина, Люся, все время почти сидела, уткнувшись в книгу, и двух внимательных взглядов было достаточно, чтобы понять: ничто, кроме книги, не интересует ее. Одну книгу прочитав, она бережно, из чемоданчика, доставала следующую – и так же, словно читая продолжение, уходила в нее без разбегу.
На одной из станций Евгений вышел, походил-походил по перрону, купил в ларьке вина. В купе на охапку бутылок взглянули с ужасом и любопытством, а Евгений, хоть и не хотел этого, подмигнул соседям. Он сходил к проводнице, сказал ей:
– Дорогая, нет ли у вас лишних стаканчиков? – и улыбнулся той улыбкой, которая одновременно и хороша, и вежлива, и насмешлива, но главное – подкупающе добра.
Проводнице, особенно строгой, потому что была молода, не было и восемнадцати лет. Ей очень нравились солдаты, вообще военные, только она никому об этом не рассказывала, даже подружкам своим, когда они мечтали о женихах: «Ой, девочки, как все-таки это страшно – выходить замуж!»
Перед ней стоял высокий («Очень, очень добрый, наверное!») солдат, которого она, конечно, сразу приметила, и называл ее «дорогой».
– Сколько вам нужно, гражданин?
– А сколько не жалко?
– Нет, я вас серьезно спрашиваю, гражданин… – Она прыснула.
– Если ты Наташа, давай четыре…
– Наташа… – растерялась она. («Откуда он знает?!») – Вот, пожалуйста, четыре стакана. Только верните…
– А меня зовут Евгений. Проходили в школе «Евгения Онегина»?
Снова прыснула.
– Только я не Онегин. – И он развернулся. – Я Никитушкин!
Наташа, улыбаясь, посмотрела вслед Евгению, но вдруг как будто опомнилась, посерьезнела: «С этими шутниками надо быть строгой!..»
– А вот и мы – шапка да пимы! – входя в купе, сказал Евгений.
Он распечатал бутылки, налил по полному стакану и произнес торжественную речь:
– Товарищи соседи! Прошу выпить за здоровье демобилизованного солдата исторического 1968 года! Ура, товарищи!
Но никто и не притронулся к стаканам.
– Павел Иванович, ну хоть вы-то стаканчик! Выручайте солдата…
Павел Иванович посмотрел на Светлану Петровну, вздохнул… Было ясно, что из-за этого «одного стаканчика» немало уже крови попортили они друг другу.
– Ну, Павел Иванович, дорогой!..
– Простите, молодой человек, – улыбнулся виновато Павел Иванович, – но… – Он как будто руками разводил. – Не пью…
– Вам х-а-ара-шо… – растягивая слова и явно насмехаясь, сказал Евгений, – вы не пьете…
Ему было все равно, пьет с ним кто или нет, смотрят на него с презрением (Люся, Светлана Петровна), пониманием (Павел Иванович) или вообще не смотрят. Плевать, если не понимают, что такое отслужить три года и возвращаться по демобилизации домой… Правда, ему не повезло чуть-чуть – все «ребятки» в октябре еще уехали, а он вот, один, в ноябре… Но он все же не расстраивается… Встает перед глазами летний вечер, второй этаж, балкон, офицер, жена его, перепуганная за Женю, который, недолго думая, махнул с балкона на землю… Да, хорошая у офицера жена была, Верой ее звали…
– Впрочем… – начал Павел Иванович, поглядывая на Светлану Петровну.
– Ага! – обрадовался Евгений.
– Впрочем… – Но все-таки сил у Павла Ивановича не хватило, он солгал: – А в каких войсках, интересно, служили, молодой человек?
– Это военная тайна, ха-ха!.. А вообще – в воздушно-десантных.
– Как – десантных?!
– Очень просто, десантных. Чего особенного?
– Постойте, постойте… но ведь и я… и я, понимаете ли, тоже в десантных… в 53-м демобилизовался… Надо же, такое совпадение!..
«Ну, теперь все! – было написано на лице Светланы Петровны. – Начнет вспоминать всех своих Коль и Миш, как служили вместе, какие были времена. Старая песня!..»
– Нас, понимаете, было трое друзей: Коля Бух, я и Миша Сувалов. Так, верите ли, все мы попали в десантные, даже в один взвод. Ох, и давали мы жару! Честное слово!..
– Ну, теперь-то уж придется выпить, Павел Иванович! Не отвертишься, старик! – Как бы ища поддержки, Евгений взглянул на Люсю, а та в это время прыг со второй полки, достала свой чемоданчик, вынула книгу («Эм-пи-ри-рическое и апр-апри-орное» – успел прочитать Евгений) и снова на полку.
В последний раз просительно взглянув на Светлану Петровну, Павел Иванович сказал:
– Была не была… С десантником грех не выпить. Десантник – первый воин в наших войсках!
Он решительно взялся за стакан. Пока они чокались, Светлана Петровна успела встать и демонстративно вышла из купе.
Она стояла в коридоре и глядела в окно. «Как ты не понимаешь, Павел, – будет говорить она позже, – что это низко, подло, эгоистично – встретить в пути первого попавшегося человека и начинать с ним пить! Сколько сил, энергии ты расходуешь зря, а разве так уж много в тебе всего этого? Ты болен, нервен, с молодости много пил, тебе нужно наверстывать упущенное, столько нужно еще прочитать, узнать! Нельзя же всю жизнь тянуть на багаже, который получил еще в институте! Подумай, Павел, подумай, что ты делаешь! Как тебе не больно так жестоко обкрадывать себя! Ведь жизнь действительно прекрасна, это без Островского, без высоких слов – но ведь, в самом деле, это так!..»
А Павел Иванович с Евгением особенно сошлись на том, что с гондолы прыгать страшней, чем с самолета. На втором уже году, в 67-м историческом, Евгений однажды, во время инспекторской поверки, никак не мог оттолкнуться ногами от мостика. Мостик пружинил, Евгений стоял, как над пропастью, и не мог оторвать от доски ног. А за спиной было уже 17 прыжков с самолета, во как случается!.. Что-то подобное было и с Павлом Ивановичем. Правда, он все-таки сам прыгнул, его не толкали в спину, но когда прыгнул, повис на стропах. Видно, укладывая парашют, привязал стропы к куполу, а ни командир отделения, ни взводный не заметили – вот и повис. «Ну, думаю, все, каюк – вдруг бац, па-а-алетел вниз! С гондолы ножом пластанули… Но это еще ничего. Вот в 52-м, как ты говоришь, историческом…»
Светлана Петровна вернулась в купе и, ни слова не говоря, забралась на вторую полку, тихонько, как мышь, повозилась там, отвернулась лицом к стене и уснула…
Проснулась, показалось ей, она нескоро, от шума. Павел Иванович, как рыба, открывая рот и шлепая губами, кричал на все купе: «Он! Он! Там!..»
Она поняла, что Евгений отстал. «Ну, и слава Богу!» Она посмотрела в окно – кружился над полем снег; как быстро летит время, давно уже зима!.. Она подумала об этом не с грустью, но с грустной радостью: каждое время года своей новизной волновало ее, приносило надежду…
Евгений зашел на станцию, походил немного, присматривая, где бы сесть, подмигнул девушке-телеграфистке, улыбнулся ей. Потом сел в углу на лавку, раскрыл чемоданчик… От поезда он не отстал, нарочно вышел здесь. Давно жила в нем мысль заехать на Красную Горку, раз придется проезжать мимо. С Красной Горкой у предков связана какая-то тайна, которую они упорно скрывали. Не особенно мучила Евгения «тайна», но все же интересно, в чем там дело. Какого-нибудь плана в голове у него не было, так – русское авось…
С любопытством рассматривал он девушку-телеграфистку. Она иногда тоже взглядывала на него. Когда глаза их встречались, она свои затуманивала, словно не на него смотрела, а так, в сторону… Евгений улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Потом он долго не обращал на нее внимания. Когда сказал себе: «пора» – и взглянул на нее, глаза ее были открыты и понятны. Но снова долго и упорно не смотрел на нее. Может, она уже возненавидела его? Найдя ее глаза, он уже в открытую улыбнулся им, – и она тоже улыбнулась ему. Больше они не были чужими…