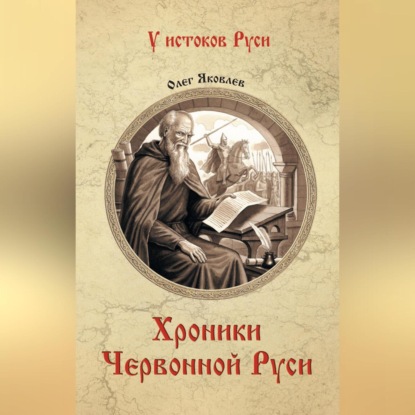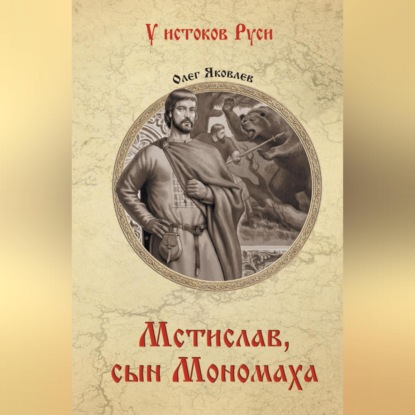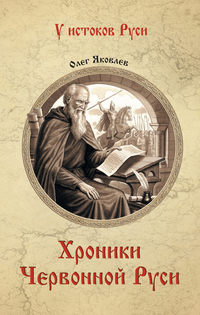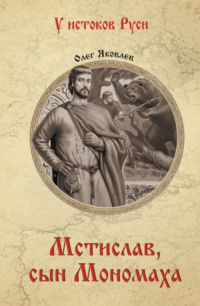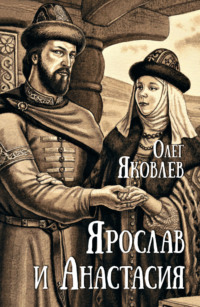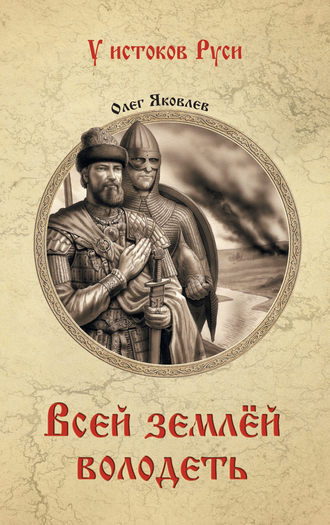
Полная версия
Всей землёй володеть
Митрополит с яростью отшвырнул в сторону свиток и стукнул посохом по полу.
– Изяслав, коли сядет в Киеве, знаю, снимет меня, – жестом руки остановив готового возразить Всеволода, спокойно продолжил он. – Заместо меня грека поставит. Но грекам потакать сей князь не будет. Он, скорей, наоборот, на рымского папу глядеть почнёт. Жена вон у него латынянка. Вот Святослав, тот неведомо как себя поведёт. Око пристальное за ним надобно. Про бояр ты баил? Скажу тако: надобно власть княжую в Залесье крепить. Не токмо посадников да тиунов[46] – мнихов[47], иереев[48] посылай туда.
– Знаю об этом, святой отец. Посылаю уже.
– Ну вот и лепо. – По лицу митрополита скользнула мягкая улыбка. – Трудная ныне грядёт пора, чадо. Но ты, Всеволод, поверь уж мне, старцу, своё возьмёшь. Сердце чует. Любимый ты был у меня ученик – в тебя, в разум твой верую я.
– Пойду я, отче. – Смущённый последними словами митрополита молодой князь торопливо поднялся со скамьи.
Он ценил Илариона, уважал его, ибо тот был человеком, взрастившим его духовно. И хотя вёл споры митрополит всегда гневно, был запальчив, часто взрывался, мог накричать, что совсем не подобало священнику, Всеволод испытывал к нему одни только добрые чувства, восхищался его умом и благодарил Бога за то, что тот даровал ему такого мудрого наставника.
– Что ж, ступай, – улыбнулся Иларион и на прощание перекрестил питомца.
Ещё немного растерянный, не осмысливший до конца всего, что говорил митрополит, молодой князь вернулся к себе в терем. В ту ночь он долго не ложился и всё ходил в полумраке, глядя в темноту и размышляя о будущем, о том, что может и должно случиться на Руси, если умрёт отец.
Глава 2. Завещание Ярослава
Старый князь Ярослав чувствовал, что доживает последние дни. Вся жизнь, полная опасностей, побед, поражений, великих свершений и замыслов, незримо представлялась ему, и едва стоило закрыть глаза, как, словно из тумана, выплывали перед ним образы давно умерших людей.
Вот отец, князь Владимир Святославич, Красное Солнышко, Креститель, его холодные, беспощадные серые глаза, в которых читается железная воля, упрямство, уверенность.
На чём зиждется величие державы? Предки – деды, прадеды – полагали, на крепости меча, на силе. С мечом ходили на непокорные племена, лили потоки крови, уничтожали ради призрачной мечты о единении человечьи жизни. Олег Вещий, Игорь, Святослав – сколько ратных трудов свершили они, создавая огромную славянскую державу, которая раскинулась ныне на сотни вёрст от Двины до берегов Понта, от Карпат до Волги, сколь великое множество раз они усмиряли, покоряли, подчиняли чужую волю воле своей! Какие только правители, из каких только земель искали у них союза, покровительства, помощи! Но что значит величие, добытое мечом, кровью, убийством?! Отец первым понял: одной тупой силой не удержать людей в единой руке. Неизбежно в душах их подымется ненависть к насильникам, начнутся встани[49], бунты, и наступит рано или поздно час, когда не останется силы, чтобы сохранить державу. Сколько было примеров – древние деспотии, Рим, империя франков, Великая Моравия.
Значит, нужен иной путь. Сплотить людей, полагал князь Владимир, должна вера. Всегда скорый на руку, отец никогда ни в чём не сомневался, не колебался, шёл вперёд твёрдо и уверенно, но это было дело, которое определяло судьбы Руси, будущее многих поколений, и торопиться здесь никак было нельзя. Поначалу отец склонялся к старой вере, ставил повсюду идолов, потом сам тайно принял христианство, и лишь много позже, спустя несколько лет, решился наконец крестить Русь.
Ярослав глухо застонал. Лица отца он уже не видел. Только глаза его, жестокие, упрямые, всё стояли перед ним, застывшие, немигающие, словно говорили они, напоминали: «Вот, Ярославе, и твой час пробил».
– Отче, отче! Ответь мне: могут ли сила и вера сохранить на века единение державы? Молчишь… А я скажу тебе, – тихо шептал старый князь. – Нет, мало этого. Вера прививается не за день, не за два, не за сто лет даже. Меч же порождает ненависть, как кровь порождает кровь. Это ты уразумел. Уразумел и я. Когда волхвов в Суздале повесить велел, неотступно о том помнил.
Но, помимо веры, нужно ещё иное – просвещение, цель и закон. Без этого даже самая великая и могучая держава рассыпается в прах. Он, Ярослав, всю жизнь без устали просвещал людей, создавал в городах школы, даже для бедноты, собирал книги, призывал из Ромеи учёных богословов. У себя в Киеве устроил он библиотеку, в которой хранилась без малого тысяча драгоценных свитков и редкостных книг в тяжёлых, богато украшенных окладах. Просвещение, думалось Ярославу, должно убить в людях злобу, ненависть к ближнему, должно сделать их лучше. Но просвещение невозможно без красоты – человек, не видя красоты, не потянется к книгам, не захочет знать грамоты; красота же невозможна без Бога.
Долгое время казалось Ярославу: что-то он тут недопонимает, что-то недоделывает. Наконец, додумался он выстроить в Киеве собор, подобный Константинопольской Софии. Возвели зодчие диво дивное, розовое, с покрытыми свинцом куполами, поражающее взор красками. Столь великий храм, каким стал Софийский собор, полагал Ярослав, будет гордостью всей Руси и смягчит ожесточение сердец. Глядя на него, люди ощутят свою причастность к этой красе, почувствуют себя единым народом.
Но, кроме просвещения, красоты, веры, нужно единство цели – только оно может крепко сплотить люд. Много воевал Ярослав с братьями и племянниками, изведал и радость славных побед, и горечь тяжких неудач, не раз приходилось ему подавлять бунты непокорных людинов, но когда вырастала перед Русью опасность – будь то печенеги, торки, нурманы[50] или ляхи[51] – народ вставал воедино: простолюдины забывали ненависть к боярам, бояре – страх перед беднотой, князья – свои распри. Так цель объединяет людей. Но как обрести эту цель? Какая может быть иная единая цель, кроме отпора нашествиям иноплеменных? Ярослав не знал.
С годами уяснил он себе ещё одну истину: держава не существует без закона. Закон, если ему следовать, способен удержать многих людей от греха, уладить миром споры, установить справедливость. Но никакой закон, сколь бы ни был он хорош, не сможет удоволить всех. Вот он, Ярослав, создал свою «Русскую Правду», а всем ли она по нраву? Конечно, нет. Обязательно сыщется тот, кто захочет закон обойти. Так и ряд – порядок наследования, который хотел теперь он, Ярослав, установить, не всем придётся по душе. И тогда… Сыны, как волки лютые! Князь беспокойно заёрзал в кресле.
Вспомнилось ему давнее грозовое лето 6523 от Сотворения мира[52]. Страшный, самый страшный год его многотрудной жизни. Умирает отец, столь нежданно, что вся Русь в смятении. Он не оставил завещания, и они, двенадцать сыновей, вступили в кровавую свару. Как живые, предстают перед старым Ярославом единокровные братья Борис и Глеб, убитые Окаянным Святополком, их чистые, юные лица, наивные, полные жизни. И вдруг… Вот они оба в гробах. Ярослав прослезился.
Он чтил память братьев, добился признания их святыми, создал церковь в Вышгороде[53] в их честь. Родство со святыми призвано было, по его мысли, укрепить княжескую власть и помочь ему возродить и умножить славу предков.
Кажется, труды не пропали даром. Слава Всевышнему, Русь стоит. Но вот из тумана выплывает лицо внучатого племянничка, Всеславушки, хищным огнём пылают его наглые очи, он закладывает пальцы и хриплым голосом говорит:
– Витебск[54] – раз. Усвятский волок[55] – два, Полотеск[56] – три, Меньск[57] – четыре. Се – моё! И то моё же!
И отделился, супостат. Собор в Полоцке отгрохал – Киевской Софии не уступит. И что с ним делать, с проклятым крамольником?!
Ярослав снова глухо застонал. Представился ему внезапно большой отрез фиолетового ромейского аксамита[58], на котором сверкали золотом гривастые львы и птицы в круглых медальонах. Аксамит этот хочет он взять в руки, но едва успевает ухватиться, как неведомо откуда появляются Всеслав со своим покойным батюшкой Брячиславом (тоже был коромольник, здорово побил его Ярослав единожды на Судомири[59] под Плесковом!), жадными ручищами потянулись они к дорогой ткани, схватили, стали тянуть к себе. Ярослав в гневе рванул аксамит на себя, и… легко, будто пуховая, порвалась драгоценная ткань. И тут же подумалось: вовсе не ромейский аксамит это, это – сама земля Русская, его держава, кою он холил и лелеял без малого четыре десятка лет.
Старый князь встряхнулся, закрыл лицо руками, отогнал мрачные видения и стал думать о своём завещании.
Составленное заблаговременно, покоится оно под замком в ларце, и ни одна душа пока не ведает, что писано в нём. Но мозг старого Ярослава сверлит беспокойная мысль: «Вдруг не внемлют?! Нет, только бы не так! Только крови бы не пролили!.. Сыны, один на другого! Господи, не допусти! Не дай им сгубить друг дружку!.. Всеволод, любимец мой! Пойми, иначе я не мог! Стол великий – старшему в роду! Так заведено, раз и навсегда. Старшему, ибо таков завещанный мною вам ряд. Эх, Владимир, надежда моя! Зачем, Бог, отнял ты у меня первенца?! Видно, грешен аз! Изяслав – не то. Святослав? Да нет, тоже не то. Даже Всеволод не такой. А Вячеслав, Игорь – те и подавно… Господь милостив. Отнял у меня одного Владимира, зато подарил другого – крохотного внука – младенца».
Вдруг почудилось Ярославу: как раз этот младенчик, носящий имя умершего старшего сына, и есть будущее Руси, он – её надежда. Старый князь, сам не зная почему, но успокоился.
«Да, а ведь верно», – подумал он и с тяжёлым старческим вздохом откинул голову на обитую синим бархатом спинку кресла. Подоспевшие холопы[60] бережно подхватили князя под руки и повели в опочивальню.
* * *В киевском великокняжеском дворце – тишина и покой. Редкий челядин едва слышно проскользнёт через галерею с резными столпами и скроется в одном из тьмочисленных тёмных переходов, убогий монашек прошелестит долгой рясой, холопка прошмыгнёт в бабинец, оружный[61] ратник у дверей кашлянёт, разглаживая усы.
Уныло, пустынно в горницах дворца. Разъехались кто куда княжьи сыновья, ускакали с поручениями в волости отроки[62]. В тоскливом, гнетущем душу одиночестве сидит в палате старый Ярослав, седая борода вьётся непослушными колечками, на поредевший лоб падает жидкая прядь некогда густых волос.
Топот детских шажков слышится за дверями, хрипловатый женский голос несётся вослед:
– Куда, княжич! Не мочно[63] туда.
Ярослав вымученно улыбается, встаёт с мягкого кресла и, тяжело ступая, сам открывает высокие двери.
Худощавый мальчик лет трёх, темноволосый, с большими чёрными глазами, смуглолицый, проворно хватает ручонками дедову ладонь. Долгая белая сряда[64] мальца, шитая из добротного сукна, перетянута узорчатым пояском, ноги обуты в короткие сапожки.
Они идут в палату, дед сажает внука к себе на колени.
– Почитай мне, – просит малыш. – Аль сказку скажи.
– Извини, княже великий, не доглядела, – просовывает голову в дверь холопка. – Забежал-от к тебе, без спросу.
– Ничего. Ты ступай, – отстраняет её рукой Ярослав. – Ну, чего ж тебе такое и порассказать, Святополче, – обращается он к крохотному княжичу.
– Про храбров[65], дедо, молви, – просит ребёнок.
И Ярослав рассказывает, медленно, неторопливо; мальчик слушает, кося и посверкивая тёмными глазами.
А великий князь думает о своём. Святополк, младший сын Изяслава от польской княжны. Сейчас с горькой усмешкой вспоминает Ярослав, как ещё до свадьбы ругал сына за его похождения.
Впрочем, речи гневные отцовые Изяслава, как видно, не проняли. Собрал он в Турове на погляд красовитых девок и выбрал из их числа для себя несколько наложниц. Сведав о том, чем занимается и как живёт его сын, великий князь отправил в Польшу сватом новгородского боярина Остромира – прослышали на Руси о красоте и богатстве сестры князя Казимира, Гертруды. И вскоре новая хозяйка появилась в туровском Изяславовом терему – властная, нравная. С овдовевшим свёкром, правда, была ласкова, прикидывалась овечкой беззлобной, понимала: он покуда здесь, на Руси, – глава. Родила Гертруда мужу двоих ребятишек. Первенцу, Мстиславу, уже стукнуло нынче девять лет. Лихо управляется не по годам рослый Мстислав с конём, меток в стрельбе из лука, первенствует во всех забавах и проказах, кои творятся на княжьем дворе. Одно только плохо – порой овладевают юным княжичем внезапные приступы гнева. Один раз высек он в ярости плетью дворового пса, посмевшего его облаять, в другой – свернул шею пойманной в силок птичке. Тревожно становилось на душе у старого князя. Не натворил бы сей Изяславов сын, как вырастет, больших бед.
Обоих чад Изяславовых Ярослав поначалу почему-то недолюбливал. Может, потому, что ратился в молодые годы с Гертрудиными отцом и дедом.
Святополк, во святом крещении Михаил, – странное дело – совсем не походил ни на мать, ни на отца, ни на старшего брата.
«Моя бабка – греческая царевна Феофано[66]! Племянница самого базилевса Иоанна Цимисхия! – вздёргивая вверх голову, с гордостью поясняла Гертруда. – Смуглая была, и волос чёрный! В неё ребёнок!»
Она показывала Ярославу красочную миниатюру с изображением смуглолицей женщины в королевском венце и в нарядном багряном платье.
Как причудливо передаются черты через поколения! Во всём, кажется, повторяет крохотный княжич прабабку свою. Что-то необъяснимое даже, неуловимое, такое, что и не передашь словами, скользит в каждой чёрточке его детского личика.
Ярослав усмехался в усы и рассказывал о былинном богатыре Добрыне, о том, как победил он в бою семиглавое чудовище-змия.
Низко поклонившись князю, в палату впорхнула молодая Гертруда. Вопросила, нет ли грамот от посланного на полюдье в Пинск Изяслава. Ярослав придирчиво, со строгостью оглядел невестку. Хороша. Льняные волосы пробиваются из-под парчового плата, ниспадают на ровное высокое чело, ланиты румяны, пышут здоровьем, тонкие уста горят багрянцем, под облегающим стан суконным платьем проступает пышная грудь. Один, пожалуй, изъян у Гертруды – острый, длинный нос. А так, добрая жёнка. И чего Изяславу неймётся?! Другим бы этакую кралю!
Стало вдруг жалко эту молоденькую княгиню. Разве такого мужа, как Изяслав, заслуживает она?!
– Не докучает? – спросила Гертруда, указывая на Святополка. – А то заберу, отведу в бабинец.
– Да нет, пусть сидит.
Гертруда, снова низко поклонившись, вышла.
Вскоре за дверями послышались тяжёлые шаги и громкие голоса. На пороге показался оружный гридень.
– Княже великий! Тамо боярин твой, Яровит-Микула. Издалече прибыл. Из стран восходних. Просит пустить.
Ярослав оживился, обрадовался, осторожно спустил с колен маленького Святополка и коротко повелел:
– Зови скорей.
…Лет десять назад Ярослав, когда объезжал на Черниговщине сёла, заехал далеко на север, в дремучие пущи, туда, где за крутыми ярами начинается земля диких язычников-вятичей[67]. В глухой деревеньке повстречал он отрока лет двенадцати, подивился, что разумеет малец грамоте, стал расспрашивать и ещё более удивлялся умным его ответам. Паробка этого, Яровита, в крещении Микулу, князь увёз с собой в Киев. Смекалистый подросток быстро шёл в гору. Вскоре Ярослав стал поручать ему самые трудные и тонкие посольские дела. За короткий срок побывал юный Яровит в Дании, в Ромее, у венедов, в дальней земле франков. Умный юноша достиг на княжеской службе многого: и боярство ему пожаловали, и волости, и уважения добился он даже в среде именитых, кичащихся своим высокородством «набольших мужей».
Два года назад Ярослав отправил своего любимца с грамотами далеко на восток, в земли хорезмийцев[68]. Хотел получше разузнать о тамошней жизни, думал расширять торговлю, искать прочных союзов. И вот теперь Яровит возвратился, и князю не терпелось выслушать его.
Исхудалый большеглазый юноша лет немногим более двадцати, с бронзовым от загара лицом и выгоревшими под жаркими лучами южного степного солнца тёмными волосами, высокий, тонкоусый, в пыльном дорожном вотоле[69], нервно сжимая в руках войлочную шапку, кланяется Ярославу в пояс.
Старый князь порывисто заключает его в объятия, приглашает сесть за стол. Яровит хмур, задумчив, сосредоточен.
– Извини, княже, – начал он, торопливо отпив из поданной челядинцем чары глоток сладкого греческого вина. – Спешил к тебе, прямо с дороги. Недобрые принёс вести.
– Что такое? – насторожившись, взволнованно спросил Ярослав.
– За Итилем[70], в степях бродят кочевые орды. Жгут, грабят, нападают на города. Вся Хорезмийская земля ныне в руках одного племени – сельджуков[71]. Племя это сродни огузам[72] и торкам. Каганат огузов на реке Сейхун[73] разгромлен иными ордами, рекомыми кипчаками. Янгикент, главный город кагана, взят копьём и разграблен. Взяли кипчаки и иные грады – Сыгнак[74], Сауран[75]. Орды их тьмочисленны, кочуют от Сейхуна до великой реки на восходе. Купцы называют ту реку Иртыш. Вся степь за Итилем подвластна кипчакам.
– Откуда взялись эти кипчаки? Вот напасть. Теперь не до торговли будет. Да, худо дело, – раздумчиво огладил долгую бороду Ярослав.
– Учёные люди говорят, жил раньше в степях большой соуз племенной – кимаки. Из него будто бы и отделились эти самые кипчаки. Живут в поле, коней пасут, овец, хлеб не сеют. А ныне, как я возвращался, слух прошёл, через Итиль они двинули, торчинов и печенегов теснят. В Саксине[76] купцы лавки закрывают, уезжают в иные края.
– Стало быть, скоро эти самые кипчаки возле наших земель окажутся?
Яровит угрюмо кивнул.
– Так, княже. Там ведь, от Итиля к восходу – сушь, песок. Ни пастбищ добрых, ни рек великих на сотни вёрст. А народ кипчаки кочевой, степной.
– Каковы они из себя? С печенегами схожи?
– Да нет. Глаза у многих узкие, как щелки, лица скуластые. Волосы у большинства тёмные, но есть среди них и светловолосые, и рыжие. И, думаю, опаснее они печенегов будут.
– Вот как. Да, видно, нелёгкое грядёт на Руси время. – Ярослав горестно вздохнул.
Он ещё долго беседовал с Яровитом, и с лица его не сходили тревога и печаль.
В недобрый час оставляет он родную землю. Лютый враг подступает к её рубежам. Но ничего поделать нельзя – на всё Божья Воля.
Как он решил, как обдумал, так он и поступит – иного нет.
* * *Несмотря на старость и болезни, Ярослав продолжал заниматься державными делами: разбирал судебные споры, давал распоряжения тиунам и воеводам, рассылал гонцов. Глядя на беспокойные лица старых своих сподвижников, сыновей, иереев, он улыбался, ободрял их, хотел показать, что здоров и полон сил. Пусть не боятся за него, делают все дела, как прежде.
В середине февраля, когда обрушились на землю свирепые метели, старый князь выехал из Киева в Вышгород – город, в котором почти безвыездно жил последние два года. Теперь, на исходе земных лет, хотелось ему побывать у гробов братьев-святых, посмотреть с кручи на скованный льдом Днепр, обозреть тёмную дремучую пущу за рекой, тянущуюся за окоём[77], в неведомые дали, полюбоваться свинцовыми маковками церквей.
Недалёк путь до Вышгорода, но показался он старому Ярославу на редкость долгим. Глядя на белый снег, на дорогу, по которой мчались сани, князь чувствовал, как из старческих плохо видящих глаз его текут горькие слёзы. Невестимо сколько вёрст изъездил он за свою жизнь, но теперь впереди у него лишь вот эта последняя дорога.
В Вышгороде, как только приехали, великому князю стало совсем худо. Гридни с трудом вывели его из саней и сопроводили в горницу. Бессильно упав в мягкое высокое кресло, Ярослав снова предался невесёлым думам.
Пришла ему пора ступить последний шаг, свершить последнее в земной жизни деяние. Он беспокойно заворочался, приподнялся, упираясь слабеющими дланями в подлокотники, и едва слышно проговорил:
– Скликайте сынов… Митрополита… Бояр.
…Первым влетел в ворота Вышгорода возок митрополита. С посохом в руке, в чёрной рясе и высоком клобуке, с наперсным крестом – энколпионом[78], висевшим на золотой цепи, в окружении служек-монахов, кланяясь князю, вошёл в горницу, чинно и степенно, Иларион. Ярослав, привстав, принял благословение святого отца.
Следом за митрополитом, будто ветер в поле, ворвался встревоженный Всеволод, на ходу стряхивая с кожуха[79] и шапки снег и бросая их в руки челядинца.
Нервно теребя перстом длинный ус, предстал перед отцом Изяслав в тёмно-коричневого цвета зипуне[80] с золотой прошвой.
За ним явились молодшие – Вячеслав с Игорем, испуганные, нахохлившиеся, как воробьи.
Собирались видные бояре, все в тёмных зипунах, кафтанах, ферязях[81] (знали: не на празднество едут), рассаживались по обитым бархатом и парчой лавкам, стоящим возле стен по обе стороны от княжеского кресла.
Последним, весь в поту, вбежал Святослав.
– Трёх коней загнал, отец! – тяжело, с присвистом, дыша, выпалил он.
Его рыжие космы разметались во все стороны, светлые глаза на молочной белизны лице смотрели из-под насупленных широких бровей прямо, жёстко и холодно. Это были глаза воина, готового в любой миг ринуться в яростную, смертельную схватку.
Ярослав недовольно поморщился. Отчего-то он недолюбливал Святослава. То ли за легкомыслие его, за дурь молодецкую, то ли за то, что общению с монахами и книжному чтенью предпочитал этот сын охотничьи забавы, пиры, шумные застолья. Вот покойная княгиня любила Святослава паче прочих детей, да и был он весь в мать, такой же резкий, гневливый, порывистый, скорый на руку.
Старый князь окинул сумрачным, колючим взглядом сыновей, вымученно улыбнулся митрополиту и властно махнул десницей стоящему за спиной гридню.
Гридень опрометью бросился за дверь и через несколько мгновений воротился, неся в руках обитый красным сукном ларец.
– Изяслав! – подозвал Ярослав старшего сына, дрожащей дланью снимая с пояса и протягивая ему ключ. – Открой. Там… завещание. Достань.
Сжав в руке массивный медный ключ, Изяслав несмело ступил вперёд. Внезапно всем существом его овладел страх, он срывающимся робким голосом с трудом выдавил из себя:
– Нет, не возмогу… Может, иной кто… Не я… Нет.
Ключ вывалился из дрогнувшей десницы и с глухим стуком ударился о деревянный пол.
– О, Господи! За что мне такая кара?! – прошептал Ярослав.
Набрав в рот побольше воздуха, он гневно крикнул сыну:
– Князь! Что же ты, недостойный, позоришь меня перед боярами и митрополитом? О, сын мой, чадо возлюбленное, Владимир! Боже, за какие грехи ты его прибрал к себе?! Ему бы Киев отдал!
Изяслав, весь в холодном поту, стуча зубами от волнения, прижался спиной к стене.
Власть! Он страшился её, этой власти над людьми, боялся братьев, смердов, бояр – всех, кем должен будет теперь повелевать. Да и как могло быть иначе, если вовсе не готовился он занять отцово место, и в мыслях не допускал такого поворота дел? Ну, пусть дали бы ему какой-нибудь небольшой городок, жил бы он там, охотился, любил, тихо и спокойно, не ощущая на плечах тяжкого бремени первенства. Какое несчастье, что умер старший брат Владимир, что при смерти отец и что ему отныне надлежит сесть на великий стол! Как завидовал он младшим братьям, сам хотел быть младшим, далёким от этих властных, суровых киевских бояр, которые, конечно же, станут требовать от него походов, даней, вир[82], земель, от этих простолюдинов, вечно чем-то недовольных, иереев с длинными речами о Боге, нравоучениями, молитвами. Сколь счастливы мастера, кладущие мусию или пишущие фрески – кроме мира красок, ничего не существует для них, нет в их жизни тяжких и нудных державных забот!
Захотелось Изяславу бежать отсюда, из дворца, сесть на коня, махнуть куда-нибудь в дальнее Залесье, облачиться в простые одежды. Только ведь сыщут – никуда не денешься.
С нескрываемым презрением смотрел на него Святослав, на устах одного младшего из братьев, Игоря, извечного острослова и весельчака, играла злорадная усмешка, с недоумением взирали на растерянность наследника киевского великого стола ближние бояре. Один только Всеволод казался бесстрастным и равнодушным.
«Всё это – суета сует», – словно бы говорил его скучающий, холодный взгляд.
Но вот вдруг в глазах Всеволода вспыхнул живой огонёк, он подался всем телом вперёд и решительно сделал шаг. Шаг в неведомое будущее.
Всеволод и сам не понимал, зачем он сейчас шагнул вперёд. Ну, стоял бы себе, как другие братья, как рыжеусый верзила Святослав, тихий Вячеслав, насмешливый Игорь – так нет же, проснулся в нём некий внутренний голос, который будто нашёптывал ему: «Иди, княже. Покажи себя. Пусть знают, кто великого стола более достоин».
– Дозволь мне, отец, – промолвил Всеволод тихо, едва шевельнув губами.
– Добро, сынок, – прошептал со слабой, вымученной улыбкой Ярослав.
Всеволод наклонился и взял в руку упавший ключ, почувствовав внезапно со всей отчётливостью, какая великая тяжесть заключена в нём – тяжесть власти.
В горнице воцарилась тишина. Бояре одобрительно закивали головами, а на лице Изяслава, как почудилось Всеволоду, промелькнула даже некая благодарность – спасибо, мол, выручил, братец.