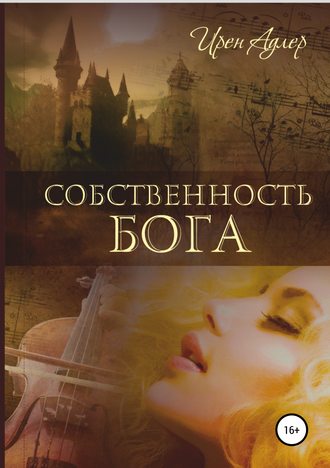 полная версия
полная версияСобственность бога
Со стороны мне трудно судить, но Мадлен утверждала, что Мария удивительно на меня похожа, а с возрастом обратится едва ли не в мою копию. Я же настаивал, что в дочери главенствует мать, и методично указывал Мадлен на собранные улики. Мягкий носик, округлый подбородок, и даже нижняя губа, которую девочка уже научилась забавно пучить, если решала сердиться. А вот лоб, я согласен, мой. И даже первая волна темных кудрей над ним, непроходимым частоколом, тоже от меня. И еще тихое, исподволь, упрямство. Мадлен сдавалась быстро, ее легко было напугать, но Мария обладала странной, недетской твердостью. Нежный персик с косточкой внутри. Получив от матери чувствительный шлепок, Мария не захлебывалась плачем, а кривила ротик и угрюмо сопела. Она отступала, пряталась, но через четверть часа повторяла демарш. Она не тратила силы на плач, она их копила где-то внутри. В маленьком существе происходила тайная деятельность. Она признавала наши правила и запреты, как исходящие от существ более могущественных, более сильных, но свое собственное могущество она пестовала глубоко внутри. Я замечаю, что и сейчас ее кулачки сжаты. Даже во сне. Бедная моя девочка, без любви и помощи ее душа очерствеет. Она научится лгать, чтобы выжить, научится быть жестокой и непримиримой, чтобы сохранить свою изначальную целостность. Ее сердце обратится в камень. Она подрастет, возненавидит и будет мстить. Сама память о нас, ее родителях, предавших ее, покинувших ее, станет ей ненавистна. Она будет мстить нам забвением. И бабке будет мстить. Когда-нибудь та состарится, одряхлеет и окажется в ее власти. И миру, обделившему ее счастьем, она тоже отплатит. Она никого не простит.
Я не прикасаюсь к ней, но мысленно несу ее на руках, как нес ее тогда, дремлющую, в парке. И она дышит ровно, и лобик не морщит, и пальчики – как розовые лепестки. Видимо, я делаю какое-то неосознанное движение, подаюсь вперед, так как мадам Аджани глухо шипит у меня за спиной:
– Хватит. Насмотрелся. Пора и честь знать.
Я все же наклоняюсь и касаюсь волос девочки. Той рукой, на которой поперек ладони повязка. Будто это прикосновение сразу же исцелит рану. Волосы у нее чуть влажные. В комнате душно, и малышка вспотела.
– Ей жарко, – говорю я.
– Не твоя забота, – отвечает бабка. – Ступай вниз.
Я повинуюсь. Иду и придерживаю руку ладонью вверх, будто там притаилось теплое, маленькое и живое. Я украдкой зачерпнул из сокровищницы горсть монет. Я не отступлю. Я не позволю им искалечить душу моей девочки. Это упорство у Марии от меня. Я буду защищать ее, буду биться за нее, пока жив.
С мадам Аджани мы расстаемся, не прощаясь. Она сразу захлопывает за мной дверь. Анастази ждет в карете. Любен взбирается на козлы рядом с кучером. Уже совсем темно. Желтыми пятнами проступают редкие фонари. В окнах масляные светильники и свечи. Чадят, играют тенями. Улицы опустели. У лавки напротив ожидает своего владельца или владелицу портшез. На соседней улице бряцанье железа и конский топот. Анастази торопит меня. Я забиваюсь в угол и отворачиваюсь. Лошади натягивают постромки. Карета сворачивает на Медвежью улицу и ускоряет ход. Анастази долго молчит, смотрит в свое окно, но, проводив взглядом Бастилию, поворачивается ко мне:
– И чего ты добился? Сейчас ты еще бледнее, чем был утром. Лицо как у приговоренного к смерти. Раны разбередил. Зачем? Ты же знаешь, что она жива. Знаешь, что о ней заботятся. Так зачем тебе понадобилось смотреть на нее? Да еще в этом доме. Мало тебе страданий? Вот этого всего мало? – она тычет пальцем в мою перевязанную руку. – Так нет же, расковырял сердце ржавым гвоздем. Знаешь, на что это похоже? На повторные похороны. Мертвеца извлекли на свет, чтобы заново оплакать и похоронить. Ничего уже не изменишь, ничего не вернешь. Герцогиня не позволит тебя видеться с дочерью, не позволит даже думать о ней. Пора тебе с этим смириться и дать сердцу покой. Позволь ему истечь кровью и успокоиться. Пусть рана обратиться в рубец, тебе не будет так больно. Пусть даже сердце очерствеет. Чувства – это непозволительная роскошь. Любовь, нежность, привязанность – все это путы, которые только отягощают. Кандалы на наших руках. Они стирают плоть до кости и обращают нас в рабов. Это постромки и вожжи. А те, которых мы любим, – это заложники. Мы страдаем ради них, и они страдают по нашей вине. Наши чувства нас истощают, мы не выздоравливаем, а только бесконечно залечиваем раны. Мы вечно раненые и больные. Любовь – это отравленная стрела в бессмертной плоти.
Она замолкает, потом быстро пересаживается ко мне.
– Не цепляйся за эту девочку. Ты не сможешь быть с ней, не сможешь быть ей отцом. Только себя измучаешь. И ее. Сейчас она еще мала и быстро забудет свою утрату. А когда подрастет? Когда начнет узнавать тебя? Как ты объяснишь ей свои отлучки? Она будет ждать, будет надеяться, будет верить, а ты придешь к ней на полчаса и вновь исчезнешь. Сам будешь десятки раз умирать и ее сделаешь вечной плакальщицей. Будешь лгать, выдумывать, изворачиваться. А она будет спрашивать, почему нежно любимый папочка не заберет нежно любимую дочку из дома этой фурии. Что ты ей ответишь? Как солжешь? Что отправился на войну? Или в далекие страны на поиски счастья? А может быть, поведаешь о знатной, богатой даме, которая держит тебя взаперти, как животное? А что будет чувствовать девочка, каждый раз расставаясь с тобой? Если не думаешь о себе, то подумай, по крайней мере, о ней. За что ей такая мука?
Я поворачиваюсь к Анастази:
– Тогда что же мне делать?
– Не видеться с ней. Думай о ней сколько угодно, вспоминай, молись, но не встречайся. Твое сердце не выдержит, если ты будешь подвергать его таким пыткам. Ты погубишь себя. В этом земном аду побеждает лишь тот, чье сердце становится неуязвимым. Нами движет суровая необходимость, голод и боль. А чувства – это редкая и дорогостоящая приправа.
– Для чего же тогда жить? – чуть слышно спрашиваю я. – Не любить, не верить, не страдать. Для чего?
Глава 8
Клотильда скучала. Она слушала трескотню пожаловавших к ней дам, этого сборища тамбуринов, бубнов и кастаньет, ущербных, завистливых, подвядших богинь, и думала, каким же средством воспользуется Геро, чтобы осуществить эту цель, эту изначальную первородную, неутолимую, как голод, потребность – чувствовать себя богом. Он рожден на земле, в той же юдоли слез, в жалкой неизбежной конечности всего сущего, и он должен этого желать. Но как? Если он отвергает привычные, заезженные легкие пути, то вынужден обрести другой. Какой? Да и есть ли он, этот путь? Она вспомнила его глаза, то печальные, то полные света, вспомнила, как он смотрел на свою беременную жену, как держал на руках ребенка, как следил за полетом птиц, как касался деревьев, будто приветствуя, как ласкал подбежавшую собаку, как улыбался нищему в трапезной, и странная пугающая мысль вдруг поразила ее. Мысль еретическая, разрушительная. Ему и не нужно искать особых путей или средств, чтобы прийти к желанной цели и соперничать с богом. Ему не нужно идти по пути разрушения и греха. Он уже достиг того, чего желал. Он – бог. А если не ходит по воде, то это не потому, что не умеет, а потому, что не пробовал.
* * *В замке почти все окна освещены. У парадного входа три экипажа. Суета незнакомых лакеев, перебранка конюших. Ее высочество принимает гостей. Анастази мрачно косится на гербы.
– Де Шеврез с принцессой Конти. И Бассомпьер с ними. Две главные заговорщицы и шлюхи французского двора. Лучше тебе их не видеть. Вернее, лучше им не видеть тебя. Слышал про мамашу Бурже, у которой самый дорогой бордель в Париже? Так вот эта старая шлюха – нежная роза по сравнению с этими двумя высокородными дамами. Эй! – кричит она, высунувшись из окна. – Поворачивай в парк!
Я возвращаюсь к себе по черной лестнице. Мария спала у меня на руках, когда я последний раз поднимался по ней. Сейчас я один, осталась лишь тяжесть утраты. Я вновь оставил ее, отдал в чужие руки. Любен суетится, стягивает с меня башмаки. Он делает это каждый день, и я почти смирился, хотя время от времени все же испытываю неловкость. У меня есть слуга! У меня, безродного… Это разновидность оплаты. Любен осведомляется, что мне подать на ужин. Но я не голоден. Анастази права. Легче мне не стало. Скорее наоборот. Пустота в жилах. Будто я снова совершил кровопускание. Только на этот раз кровью замазан не коридор, а путь от ворот Сент-Антуан до Санлиса. И я изнутри подсушен до шелеста. Вздохнув, прошу у Любена вина. Оно красное и послужит заменой крови. Но он требует, чтобы прежде я съел кусочек грудинки. Только тогда он позволит мне сделать глоток. Делать нечего, я соглашаюсь.
Приглушенные звуки скрипки. Вероятно, дамы пожаловали не просто с официальным визитом. У них было оговорено торжество. И слава Богу! Меня не позовут к ужину и до утра оставят в покое.
Когда я раздеваюсь, чтобы смыть перед сном дорожную пыль, Любен видит мои повязки и вновь укоризненно качает головой. Мне стыдно, и я готов уверить его, что подобное больше не повторится.
Уснуть мне трудно. Слишком много потрясений. Возвращение в отвергнувший меня город, комната Мадлен, спящая дочь и разговор с Анастази – все это одновременно кипит и булькает в растревоженной памяти. Единой картины не складывается, бурное, терзающее нагромождение, где каждый из образов лезет вперед, чтобы первому завладеть моим вниманием. Но стоит победителю это сделать, как его тут же оттесняет другой осколок, отбрасывает гулким ударом в висок и сам заполняет пространство. Скрипучий голос мадам Аджани, заплаканные глаза Наннет, кособокая глиняная плошка, темный локон на подушке… Вихрь, маскарад. Я бы спрятал голову под одеяло, но это не поможет. Я очень устал, веки слипаются, но между бровей все еще вращается огненное колесо, от него во все стороны летят искры и тлеют, жгут. В теле странная тревога, беспокойство. Я никак не могу согреться, хотя ночь теплая, да и Любен всегда бросает в камин охапку виноградных лоз. Они быстро прогорают, но тепло их скоротечной жизни сохраняется до утра. Это не тот холод, который изгоняется огнем. Это холод блуждающей в пустыне души. Она бесплотна, и простым огнем ее не согреть. Я стараюсь дышать ровнее, сплетаю мысли с помощью молитвы. «Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur nomen tuum…»28 Будто сшиваю их в единое гладкое, без узелков, полотно. Они уже не пихаются локтями, а соблюдают очередность. Спокойное сонное личико Марии… Она сейчас спит. В той же комнате на тюфяке дремлет Наннет. Моя девочка не одна. Эта мысль окончательно меня умиротворяет. И я тоже засыпаю. Скрипок уже не слышно. Тишина.
Ее нарушает звук, взламывает, как тонкий ледок. Я просыпаюсь сразу и холодею. Я знаю этот звук. Это потайная дверь. Она спрятана в спальне за шпалерой. Тайный ход ведет из кабинета герцогини сюда, и она время от времени пользуется им. Не часто, ибо предпочитает, чтобы меня приводили к ней, как одалиску. Но случается и по-другому: ее высочество снисходит до визита. Как будто пытается застать меня врасплох. Является ранним утром или в полдень. Но звук я помню. Вот он, щелчок. Ни с чем не спутаешь. Визит укротителя к зверю.
Я лежу спиной к двери и лихорадочно соображаю, стоит ли притворяться спящим дальше и поможет ли мне эта бессильная уловка. Нет, не поможет. Какое ей дело до моего сна, до моей усталости и до моих терзаний. Она пришла удовлетворить свою прихоть. Но все же я не шевелюсь. Приказаний не было. Пока я только слышу ее шаги. Шелест шелка. Она не подкрадывается. Ступает властно. И все же я замечаю неровность. Она оступилась или споткнулась. Мне полагается поспешить к ней на помощь или притворяться дальше? Трудно принять решение, если тебя лишают собственной воли. Господин все решает сам, а раб только исполняет приказ. Но как быть, если от раба требуется помощь? Но ей она не требуется. Она не валится без сил, не натыкается на мебель и не ломает в темноте ног. Добирается благополучно. Шарит по подушке, затем по плечу и сразу стягивает с меня одеяло. Притворяться уже нет смысла. Я покорно ложусь на спину. Она торопливо находит в темноте мое лицо и гладит всей ладонью. Другой рукой, похоже, освобождается от одежды. У нее вновь возникает путаница и неловкость. Она даже теряет равновесие. Когда же она ложится рядом и губами утыкается мне в скулу, я понимаю причину ее неловкости. Она пьяна! Дышит вином и выдыхает его в мои легкие. Я едва сдерживаюсь, чтобы не отстраниться. Она прежде не позволяла себе такого! Герцогиня могла сделать пару глотков за ужином, но благоразумия не теряла, сохраняла высокомерное спокойствие. Ибо полагала сильное опьянение за дурную привычку грязного плебса. Существам высшим негоже уподобляться безродным свиньям. Но сегодня она внезапно им уподобилась. И сделала это очень правдоподобно. Барахтается, шарит по мне растопыренными пальцами и водит мокрым, горячим ртом. Хватает мои губы, будто куски долгожданной пищи. И еще шепчет в промежутках с винным хрипом: «Мой сладкий… Какой же ты сладкий…» Пожалуй, я бы предпочел, чтобы она оставалась прежней, деловитой и безразличной. Отдавала бы приказы. Не тратила бы время на излишнюю нежность, не кусала бы и не облизывала. Она знает последовательность: запустить механизм, воспользоваться и отбросить. Но в пьяном угаре она пытается меня ласкать. Вероятно, даже кажется себе умелой и страстной. А на деле причиняет мне боль. Ногти у нее длинные и острые. Задевает мою израненную руку, я вскрикиваю. Она замечает пробежавшую по мне судорогу, понимает вину и лепечет что-то о прощении.
– Ах, мой мальчик, тебе больно… Я сделала тебе больно. Прости меня, прости, мой сладкий…
Я сжимаю зубы от отвращения. Только бы не оттолкнуть ее, размякшую, потную, только бы стерпеть. Но страшно не это. Это все я стерплю. Страшно другое – моя каменная безучастность. Мое тело молчит. Ничего, кроме жгучего отвращения и мерцающей боли. Когда понимаю, то к отвращению добавляется еще и страх. Она пока не замечает, довольствуясь моим безропотным присутствием, будто за этим только и пришла – убедиться, что я есть, расточает свои ласки от внезапно нахлынувшей щедрости, но скоро вспомнит. И что сделает? Ударит по лицу? Пнет коленом в пах? У меня мурашки по коже, я судорожно сглатываю. Я колода, мертвец… Она мне не простит. Что же делать? Моя чувственность в мертвенном оцепенении, ушла вместе с кровью. Я отчаянно роюсь в памяти. Мою чувственность – спящего зверя – надо разбудить, посулить ему лакомство. Он не привередлив и готов проглотить все, что дарует сытость. Только бы найти пищу… У меня так мало воспоминаний… Мои мальчишеские сны тревожила оброненная подвязка и гладкая щиколотка дочери бакалейщика, пышнотелой веснушчатой девицы. Я украдкой засматривался на нее. Затем голые плечи уличной танцовщицы. Нет, мне скорее было ее жаль. Кожа у нее посинела от холода. Была еще хозяйка трактира «Грех школяра». Она ходила от деревянной стойки к столу, где шумели студенты, подхватив сразу четыре винные кружки. Я сидел с краю, и она задела меня бедром. Задела намеренно. По пути оглянулась. Арно хлопнул меня по плечу и подмигнул. Мое лицо тут же вспыхнуло от стыда. Моя молодость искала выход, желания бродили, как молодое вино в крови. Но я помнил слова отца Мартина. Он не пугал меня геенной огненной, он говорил о любви. О любви божественной, той, что осветляет плоть. О любви, что дарует неслыханное блаженство, если соединяет в себе жар плоти и пламя души. Истинная радость в единении, в слиянии тела и духа. В этом горниле плавится грех, и плоть обретает новое, божественное сияние. Однако, если пренебречь жаждой души, ограничиться ипостасью тела, блаженство окажется убогим, жалким, как будто слепым. Я не хотел растратить себя на такое блаженство и потому ждал свою возлюбленную. Мадлен – моя первая женщина, моя невеста, жена…
Нет, только не она! Я не стану думать о ней. Это святотатство, грех. Ее беспорочное, нежное тело… Я не посмею коснуться его даже мысленно. Но я помню другое тело, смуглое, вертлявое. И воспоминания эти свежи, еще не подернулись дымкой. Там стыд, удивление и сладость. Анастази… Горячая, нежная, бесцеремонная и такая чуткая. Как дразняще скользили ее пальцы, и соски, такие жесткие, упирались мне в ладонь… Я сразу чувствую тепло, оно идет по ногам, поднимается выше. Я начинаю вспоминать с самого начала, иду по ощущениям, как по знакам. Кровь разгоняется. Уже совсем тепло. Я пытаюсь наложить один образ на другой. Воображаю в этой дебелой, скользкой фигуре свою тайную сообщницу. Герцогиня тем временем тоже пытается воззвать к моей чувственности. Я угадываю ее руку, но своей настойчивостью она мне скорее мешает. Чтобы ее отвлечь, я кладу руку ей на бедро, слегка поглаживаю и сжимаю. Она тут же прижимается ко мне теснее. Я обхватываю ее стан, чтобы приподнять и дотянуться до ее груди. Мне все же удалось заглянуть в декольте той молодой, румяной трактирщицы. Она прижималась ко мне не только бедром, но и своим полузашнурованным, ярко красным корсажем, отчего у меня темнело в глазах. Я воображаю, как утыкаюсь в этот корсаж лицом и переносицей упираюсь в самую ложбинку. И я делаю это, как когда-то мечтал. Я даже целую эту навалившуюся на меня грудь. Герцогиня благодарно стонет, не подозревая, что целую я вовсе не ее, а ту веселую легкомысленную бретонку. Обнимаю я тоже не ее, а первую статс-даму Анастази де Санталь. Герцогиня отвлекает меня своим тяжелым дыханием и удушливым поцелуем, но я крепко держу воображаемую Анастази за узкие, вертлявые бедра. Надолго меня не хватит. Еще, еще немного! Снова вспоминаю трактирщицу, затем Анастази, наделяю это нелюбимое, тяжелое тело всеми когда-либо виденными мною прелестями, избавив от переселения только Мадлен, ибо мысль о ней произвела бы совершенно противоположное действие, и слышу наконец ее долгожданный, протяжный всхлип. Она выгибает спину, закидывает голову, затем тихо сползает на бок.
Засыпает она быстро. Правда, успевает снова погладить меня по щеке, отчего меня передергивает, и шепчет свое неизменное: «Мой сладкий…» Я вовсе без сил. Тепла уже нет. Герцогиня так и лежит на боку, придавив мне левую перевязанную руку. Мне уже не уснуть. А вытащить руку не решаюсь. Как-нибудь дождусь утра. Бог даст, она проснется и вспомнит, что нарушила все установленные ею законы.
И все же странно, что она пожаловала ко мне среди ночи. Как будто что-то искала… Не только утешения плоти, а нечто большее. Непривычна была в своих ласках. Только потому, что пьяна? Вино породило множество искажений или, наоборот, избавило от них? «От тебя исходит тепло, – сказала Анастази, – и все это чувствуют, даже герцогиня». За этим и пришла? За тем самым пресловутым теплом? Поэтому так ласкалась, а сейчас так безмятежно спит и дышит мне в щеку?
Анастази не так уж и не права. Я мог бы поработить ее, мог бы сыграть роль врачевателя и даже пожалеть. Она несчастна. Играет во всемогущество, а на деле одержима пустотой, которая обитает в ней, как болезнь. Властью эту пустоту не заполнишь. Ей нужен тот, кто избавит ее от этой пустоты, кто наполнит ее существование смыслом, и в благодарность она станет его рабой.
Под утро мне удается высвободить руку и уснуть. Рассвет уже на пороге. За окном первые птичьи трели. Она так и не проснулась и не ушла. Все так же лежит, привалившись к моему плечу. Я не смею пошевелиться. Спина затекла. К счастью, раненая рука свободна. К ней приливает кровь, в пальцах ледяные иголочки. От бессонницы я в полубреду. Сны уже не стыдятся разума, проскальзывают сложившимся, цельным сюжетом. Как же хочется спать… Я чуть отодвигаюсь. Теперь можно согнуть колено и попытаться лечь на бок. Спать…
Мгновения в сладостном небытие. И грохот. Оглушительный. Апокалипсическое знамение. Я вскидываюсь. Лоб уже в холодном поту. Любен! Он стоит с позеленевшим лицом, а на полу серебряный поднос и опрокинутая чашка. Он принес мне бульон. О, несчастный! Это предписание Оливье. Он распорядился каждый день с утра поить меня куриным бульоном. И Любен свято тому следует. Он же ничего не знает, бедняга. Не слышал, как пришла герцогиня. Не знал, что она здесь. Его комната далеко, по ту сторону моего кабинета, я могу позвать его, только потянув за шнурок. Как ему было догадаться? Он входит и видит в моей постели голую женскую спину. По светлым волосам угадывает владелицу и роняет поднос. Ничего удивительного. Кто бы на его месте сохранил самообладание, узрев прелести принцессы крови?
Ее высочество, как это неудивительно, спокойно приподнимается на локте и оглядывает гостя. Любена качает от ужаса – он видит ее грудь! И она не спешит укрыться. Взгляд лакея ее не тревожит. Всего лишь лакей, не мужчина. Лениво указывает ему на дверь. Любен пытается подобрать поднос, роняет, наклоняется за ним снова, спотыкается, цепляется одной ногой за другую, валится и к двери бежит на четвереньках. Герцогиня, закидывая голову, хохочет. Она почти захлебывается от смеха.
– Прикажу вздернуть мерзавца!
У меня сердце падает.
– За что же? Он ничего не сделал!
Смех обрывается. Она оборачивается ко мне.
– Тебе его жаль?
Взгляд ее снова ясен. Серо-стальная радужка с точкой зрачка посередине. У меня в подреберье холод. Тихо повторяю:
– Он не виноват. Оливье распорядился каждое утро приносить мне бульон, а Любен исполняет предписание.
Она все еще смотрит на меня, кружит, будто ястреб над кроликом. И вдруг тихо произносит:
– Да, она права…
Я не понимаю и не смею спросить.
– Анастази права, – продолжает герцогиня. – Ты блаженный. Так выгораживать своего тюремщика. А ты знаешь, что он доносит о каждом твоем шаге? Знаешь, что он не только лакей, но и соглядатай? И получает за свое иудино ремесло двойное жалованье.
Ее взгляд – это гвозди в мои жилы и связки. Но я все же отвечаю:
– Я знаю. У него семья в Руане, мать и две младшие сестры. Отец давно умер, мать больна, а сестрам необходимо приданое. Кроме него, о них некому позаботиться. Это его долг.
В глазах герцогини мелькает странное выражение, не то недоверие, не то насмешка.
– Поразительно, – говорит она. – И поразительно то, что ты сам во все это веришь.
Откидывает одеяло и бодро спрыгивает с кровати. На ковре, у самого изголовья, ее ночное платье. Не спеша, как будто и не нагая вовсе, она разглаживает кружевную хламиду, отыскивая рукава.
– Ты не перестаешь меня удивлять, Геро. Полагала все это за игру, а теперь не знаю, что и думать. Никто не в силах притворяться так долго. Да и зачем? Ради чего? Ты же ничего не получаешь за свое притворство, не имеешь никакой выгоды, напротив, терпишь убытки. Каков же вывод? Ты либо святой, либо… дурак.
– Дурак, – быстро подсказываю я.
Она снова смеется.
– Красивый дурак. И нежный. Жаль тебя покидать. Ты такой… бледный. И такой… беспомощный.
Я перестаю дышать.
– Но надо идти. Гости, черт бы их побрал! Она идет к потайному ходу, но возвращается.
– Я вот что подумала. Если тебе так уж нужна эта девчонка, пусть Анастази привозит ее. Скажем, раз в месяц. И за шпиона своего не бойся. Я прикажу его высечь, но… несильно. Любен под вечер является прихрамывающий и несчастный. Падает на колени и пытается целовать мне руку. Я отшатываюсь.
– Что это? Что ты делаешь?
– Благослови вас Бог, сударь! Вздернуть хотели, уже петлю приготовили, привязали к стропилам, да помиловали. Жиль сказал, чтоб вас благодарил. Вы заступились, слово перед ее высочеством замолвили. Если бы не вы, болтаться бы мне в петле. Выпороли только, но это так… милость Господня. У меня шкура толстая, заживет. Не в первый раз…
Я отступаю, а он ползет за мной на коленях, хватает за руки, за одежду.
– Простите меня, сударь. Я вам верой и правдой служить буду.
– Довольно! – кричу я в отчаянии. И он сразу умолкает. – И не стой передо мной на коленях. Я такой же подневольный, как и ты. Ничуть не лучше. Хватит!
– Но что мне сделать для вас?
– Ничего, Любен! Ничего.
Глава 9
Она внезапно открыла еще одну истину. Еще один закон, прежде от нее скрытый. Есть некий срединный путь, едва заметная тропа, которой следует придерживаться даже олимпийскому богу. Если лишить смертных всякой надежды, увести за горизонт череду неудач, загасить все светильники, то души этих смертных истлеют, обратятся во прах раньше их дряхлеющих тел, и сам этот бог останется без привычного лакомства – молитв и курений. Смертные забудут такого бога. Тот же распад душ произойдет и в прямо противоположном случае. Если наивное божество, или покладистый правитель, возьмется исполнять все прихоти и желания, избавив свое племя от тревог и страданий. Тогда души, как и неподвижные пресыщенные тела, разбухнут и разжиреют. Сверкающие стрекозиные крылья этих душ обратятся в оплывшие отростки, в эфирные окорока с прослойками лености и чревоугодия. Такие подданные так же бесполезны для бога и правителя и сгодятся разве что мяснику. Нет, оба пути ошибочны и ведут в никуда. Нужен срединный путь, тот единственно верный, когда день сменяется ночью, а вслед за тьмой приходит рассвет. Тогда надежда не дает душе рассыпаться в прах, иссохнуть в ожидании рассвета, а подступивший голод не позволяет сытости обратиться в икоту пресыщения.

