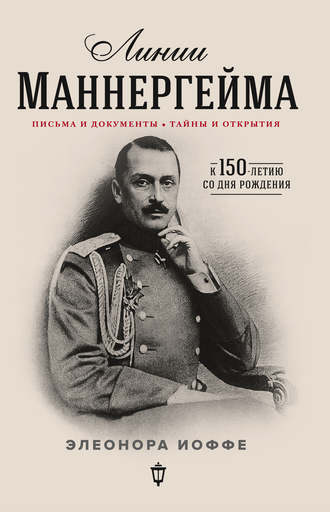
Полная версия
Линии Маннергейма. Письма и документы, тайны и открытия
Помимо домашнего, детям необходимо было дать и школьное образование. Поэтому зимой 1874–1875 года старшие мальчики, 9-летний Карл и 7-летний Густав, поселились с отцом в Гельсингфорсе, чтобы ходить в школу. Мать писала туда маленькому Густаву: «…и называют ли девочки тебя по-прежнему Патрон – Манная Крупа? Я надеюсь, что ты пользуешься своими сильными кулаками только для защиты своих более слабых товарищей»[9]. Вряд ли ее наставления помогали: в детстве он не мог совладать со своим буйным темпераментом и независимым характером.
В 1877 году вся семья, с прислугой, роялем и собственной коровой, переезжает на зимние месяцы в Гельсингфорс. В это время благополучная жизнь семейства Маннергейм кончается. Финансовые дела Карла Роберта стремительно ухудшаются, ни один из его многочисленных проектов не приносит прибыли. Он все реже бывает с семьей, и Хелене приходится одной нести все заботы – и хозяйственные, и воспитательные. Летом она возвращается в поместье, но собрать всех детей под одной крышей ей больше не суждено. Старшие учатся вдали от дома: Карл и Густав – в Гельсинфорсе, дочь София – в Стокгольме. Младшим по-прежнему пытаются подыскать домашних учителей, что совсем не просто: в те времена уже редко кто соглашался на жизнь в отдаленном имении. Кроме того, к осени 1879 года семья стояла на пороге полного разорения, и денег на оплату учителей и гувернанток больше не было.
Четверых младших детей отправляют к родственникам Хелены, а сама она остается коротать зиму в опустевшем Лоухисаари вдвоем с Густавом; в эти месяцы он не учится нигде – в ноябре его исключили из школы за серьезные по тем временам шалости: битье окон в компании еще нескольких сорванцов.
Покинутая мужем, больная, Хелена геройски пытается бороться с судьбой и даже начинает переводить с французского статьи для газет, чтобы заработать хотя бы немного денег. Она всерьез озабочена будущим Густава и тревожится за него более, чем за других своих детей. В декабре 1879-го она пишет сестре в Стокгольм: «…Мальчика невозможно заставить заниматься ничем, кроме игр с вырезанными из бумаги санями, лошадьми и тому подобным. Это дешевое домашнее производство, которым крестный Беккер смог увлечь мальчика, много раз спасало настроение. С ним все-таки гораздо легче справляться, когда он один, а не с братьями… Конечно, он часто виноват в серьезных проступках, но гордость не дает ему признаваться в этом, если я не больна и несчастна… Собираюсь обсудить с ним, не попытается ли он весной держать вступительный экзамен в кадетский корпус (в Фридрихсхамне), хотя знаю, что для него неприятно оказаться в русской армии… Он так безоговорочно направлен в сторону Швеции»[10].
При всем нежелании Густава оказаться в русской армии и неприязненного отношения обоих семейств – и Юлин, и Маннергейм – к России, другого выхода Хелена не видела: на обучение детей не было средств, а в кадетском корпусе Густав мог получить образование бесплатно. Но первая попытка поступить в третий класс реальной школы во Фридрихсхамне (Хамина), чтобы оттуда перейти в финский кадетский корпус, не удалась: Густав провалился на экзаменах. Пришлось поселить его на весь следующий год на квартире у дальней родственницы в том же городе, чтобы мальчик готовился к экзаменам и поступал вновь в 1881 году.
В сентябре 1880 родовое поместье Маннергеймов продавалось. Правда, оно осталось в семье: Лоухисаари выкупила сестра Карла Роберта, Вильгельмина. До этого была продана квартира в Гельсингфорсе, все коллекции картин и редкостей, собранные Карлом Робертом, и земли, которые Хелена получила в приданое. Пошли с молотка мебель и утварь, постельное белье и столовое серебро… Пришлось продать даже поместье матери графа, Евы Маннергейм. Крах был полный и окончательный. Все это время сам граф, скрываясь от кредиторов, не появлялся в Финляндии. Он пребывал за границей – и отнюдь не в одиночестве. Позднее он женится на своей возлюбленной, фрейлине Софии Норденстам, и в 1884 году у них родится дочь Маргерита.
Семейную катастрофу довершила смерть Хелены Маннергейм от сердечного приступа 23 января 1881 года, в неполных 39 лет. Она провела последние месяцы своей жизни в Селлвике, имении своей мачехи, куда после продажи Лоухисаари вынуждена была переселиться с младшими детьми. До последних дней она сохраняла присутствие духа и строила планы на будущее. Самообладание и мужество матери остались в памяти детей самым наглядным уроком борьбы с невзгодами. Незадолго до ее смерти, в рождественские праздники все они, кроме старшей дочери Софии, собрались вокруг Хелены. Густав тогда видел ее в последний раз. Дети, к счастью, не постигают всей глубины трагедии, и тринадцатилетний Густав не был исключением.
Г. Маннергейм – сестре С. Маннергейм8 февраля 1881 г.
Милая София!
Ужасно сознавать, что ее нет, но теперь она счастлива. Всего тягостнее мне, ибо я больше всех нас испытывал ее терпение, и я никак не вынес бы этого, не будь мне известно, что она знала, что Папа приедет, чтобы закрыть крышку ее гроба. Во время похорон я был в Селлвике. Не успел купить черных чернил, и у меня болит горло, так что мне приходится писать красными – это вовсе не важно, когда я все-таки в душе скорблю. Не адресуй впредь твои письма Ректору, так как в этом случае ему приходится платить почтальону 5 пенни за каждое письмо. Прощай, Софи, и не заставляй меня ждать напрасно письма от Тебя.
Густав
Фридрихсхамн
Адрес: фрекен Брун[11].
Несчастье сблизило братьев и сестер: несмотря на то что после смерти матери им пришлось разлучиться, они никогда не теряли связи, переписывались и были очень дружны. Карл, старше Густава на два года, стал для всех остальных другом и советчиком, к нему обращались они в трудную минуту. Осиротевших детей «поделили» между собою родственники. Всех их нужно было подготовить к самостоятельной жизни – то есть в первую очередь дать образование. Старшая, любимая всеми братьями и сестрами София уже несколько лет жила в Стокгольме у тетки, сестры матери, готовясь к профессии учительницы. Карл жил и учился в Гельсингфорсе. Заботы о воспитании и обучении Густава взял на себя брат матери, Альберт Юлин. Младшие сестры Ева и Анника оказались в родном Лоухисаари на положении воспитанниц новой владелицы усадьбы Вильгельмины Маннергейм, сестры отца. Младших мальчиков, Юхана и Августина, забрал к себе в поместье Фискарс второй брат матери. Граф Маннергейм приезжал на похороны жены; несмотря на то что он покинул семью и не мог существенно помочь детям, он старался поддержать их морально и не потерять связи, регулярно обмениваясь письмами со старшими. Сразу же после похорон он пишет Густаву.
К. Р. Маннергейм – сыну Г. МаннергеймуГельсингфорс, 7 февраля 1881 г.
Мой обожаемый мальчик,
мне было очень больно, что я не смог тебя повидать до того, как ты уехал в Фридрихсхамн. Вьюга помешала доехать до Карья в субботу, и нам пришлось перенести поездку на вчера.
Я беспокоюсь о том, как ты добрался, т. к. мы не встретились, и я не смог дать денег на дорогу. Почему ты не попросил денег у Калле или у Фрёкен? Дай мне знать, сколько ты потратил на поездку. Я высылаю тебе сейчас [нрзб.], а остальное – когда узнаю, сколько стоила поездка.
…Я надеюсь, что ты начал серьезно заниматься и таким образом чтишь память твоей матери. Будь прежде всего честен и правдив, и все у тебя будет хорошо, и ты заслужишь благосклонность учителей и доверие своих товарищей. Твоя мама смотрит оттуда, где она теперь находится, как ангел-хранитель, на своего ребенка…
Твой друг и отец[12].
Отец никогда не упускал случая прочитать нравоучение самому непутевому из своих детей. В октябре 1881 года он пишет Густаву из Нью-Йорка: «…Гарфилд, недавно умерший президент Соединенных Штатов, продемонстрировал, на что способна сильная воля. Он был беден и с детства должен был работать. Он начал учиться в пятнадцать лет. Когда разгорелась гражданская война, он присоединился к армии северных штатов, поднялся до генерала и исполнял свои обязанности лучше, чем многие другие… Несколько месяцев назад его избрали президентом, а его смерть вызвала такую глубокую печаль, что стало ясно, как высоко его ценили и какое необыкновенное доверие и уважение питал народ к этому ничтожному, бедному мальчику, который с такой непреклонной энергией, упорно и благородно стремился вперед»[13].
Приводя в пример Гарфилда, отец хотел внушить сыну, что отныне тот должен рассчитывать только на свои силы, если хочет добиться успеха в жизни. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем Густав осознает, что у него нет другого выхода кроме того, что советовал отец: упорно и с непреклонной энергией стремиться вперед. А пока он, как и было задумано, поступает в кадетский корпус во Фридрихсхамне – единственное в Финляндии военное учебное заведение, готовившее офицеров. Эта военная школа пользовалась хорошей репутацией: многие выпускники ее весьма успешно продолжали службу в русской армии и сделали значительную карьеру. Для родственников, на попечении которых остались дети, поступление Густава было большим облегчением, но для него самого годы, проведенные там, были мрачной порой. Жесткая дисциплина и муштра казались ему бессмысленными, он постоянно получал взыскания, и отношения с учителями и начальством складывались далеко не лучшим образом. Кроме того, он скоро понял, что это учебное заведение не дает ему перспектив быстрой и успешной военной карьеры, и начал обдумывать возможности перевода в более престижную военную школу. Как всегда, самые серьезные и ответственные свои решения он обсуждал со старшим братом.
Г. Маннергейм – брату К. МаннергеймуФридрихсхамн, 21 октября 1884 г.
Дорогой брат!
Спасибо за твое последнее письмо от 18 числа сего м<еся>ца. Перейду без всякого предисловия к вопросу о пажеском корпусе. Во-первых, поясню тебе по возможности коротко, каковы могли бы быть преимущества такого перевода.
1: получу, как ты знаешь, довольно безболезненно гвардейские права – это право весьма скоро у нашей школы отнимут. Начиная с этого года она будет посылать офицеров в гвардию только, если средняя оценка их диплома 10,0 и если будет вакансия, которая может открыться лишь по счастливой случайности, так как в настоящее время в каждом гвардейском полку в среднем с десяток лишних офицеров. Как видишь, дело не зависит единственно от собственных усилий, чтобы отсюда попасть в гвардию. Если я закончу эту школу, у меня, следовательно, остается две возможности: идти либо в артиллерию, либо в пехоту. Артиллерия – еще куда ни шло, но попав в пехоту, я, по всей вероятности, отвыкну от нашей жизни, если похороню себя в каком-нибудь жалком батальоне в средней России. Если же я попаду в число военных нашей собственной страны – где через два года все места будут уже заполнены, то мне придется – поскольку сверхштатные офицеры не получают в Финляндии жалованья – служить на свои средства, за одно лишь тощее вознаграждение в виде чести в надежде, что через несколько лет вакансия, возможно, представится. Это обойдется гораздо дороже, чем окончание пажеского корпуса. Может статься, получу, – если мне будет сопутствовать счастье, – место в батальоне Куопио, Миккели или т. п., откуда, отслужив свои лучшие годы, выйду в отставку штабс-капитаном или капитаном и, поселившись в каком-нибудь запущенном поместье, буду ковырять н<аво>з и возить его на поле – опустившийся, отупевший и непригодный служить своей стране сколько-нибудь значительным образом. 2: выучу в пажеском корпусе очень основательно русский, французский и немецкий, а ведь владение языками важно, какую бы карьеру я ни выбрал. 3: смогу засчитывать годы службы со специальных классов. 4: в России меня будут больше ценить. 5: мне будет сравнительно легко через посредство моих товарищей приобрести знакомства в Петербурге – у финских офицеров их обычно не так много, да и те зачастую весьма сомнительные. 6: как камер-паж попаду ко двору, что в будущем может принести мне большую пользу.
В эту минуту больше не найду других преимуществ, но, как видишь, и вышеперечисленные довольно значительны. Приведенные тобой доводы говорят, правда, против этого перевода, но они не столь решающие, чтобы из-за них я переменил свое мнение. Я даже не хочу ни малейшей отсрочки перевода, так как курсы в старших классах здесь и там разнятся гораздо больше, чем сейчас. Мне доведется, конечно, испытать множество трудностей из-за языка, но какой же я к черту мужчина, если бы позволил запугать себя этим. Что же касается того, что наступит отчуждение и я обрусею, – то, напротив, я уверен, что почувствую бо́льший интерес к своей стране и буду лучше вникать в ее обстановку после того, как испытаю тоску по родине и смогу посмотреть на ход событий издалека. Это так же, как на поле боя, где трудно следить за развитием событий, если сам находишься посреди сражения, но можно легко наблюдать их на расстоянии. Несомненно, самая веская причина – финансовая сторона дела, но на это расходуется – по крайней мере, по рассказам бывших и нынешних пажей – отнюдь не так много денег, как обычно утверждают. Тебе, конечно, знакомо изречение: «нет пророка в своем отечестве», и оно свидетельствует, что уже в древности считалось полезным на какое-то время покидать родину. Впрочем, могу сообщить тебе, что мое поступление отнюдь не гарантировано. Правда, я убедил Папу послать туда прошение от моего имени. Я также получил вакансию, но наш начальник не соизволил отпустить меня в нынешнем году. Поэтому я поговорил с Бабушкой, чтобы она попросила дядю Вулферта употребить свой авторитет для моего перевода. Стало быть, я еще не могу знать, как дело повернется. Получил от Папы несколько дней тому назад письмо именно по поводу пажеского корпуса. Он, кстати, просит, чтобы я передал тебе его сердечные приветы и рассказал о семейном событии: с 15 числа сего м-ца у тебя есть маленькая сестра, которую зовут Софи Маргарита. Малышка, говорят, очень хорошенькая. Папа пишет, что общество ребенка занимает и утешает госпожу матушку, когда та остается одна. Мне надо бы отправить письмо Папы тебе, но оно мне еще нужно, и кроме того, я рассказал тебе все, что не касается непосредственно меня и моего перевода – исключая то, что Папа надеется, что вскоре сможет показать нам свою bebe. От дяди Эмиля[14] во время его пребывания здесь слышал, что Папа получил должность на одной бумажной фабрике с месячным окладом 500 франков. Его нынешний адрес: Paris, 29 rue Jacob.
Ты, наверное, удивляешься, что мое письмо придет намного позднее, чем оно написано. Но это происходит оттого, что я написал половину письма и отложил его, а на следующий день заболел дизентерией, из-за которой лишь сегодня оказался в состоянии дописать мою эпистолу до конца. Правда, я все еще в лазарете, но уже выздоравливаю. Если мой перевод состоится, мне, по-видимому, придется ехать прямо в Петербург. Постараюсь вовремя сообщить тебе, когда буду проезжать мимо Перкярви. Поблагодари от моего имени дядю С.[15] за его любезное приглашение в Тервола.
В заключение хотел бы еще сказать, что я совершенно не сержусь на твои советы и предложения – напротив, очень благодарен за них, но если бы я им последовал, то поступил бы против своих убеждений. Будь здоров, дорогой брат.
Твой преданный брат Густав[16].
Не каждый семнадцатилетний юнец способен так здраво рассуждать и аргументировать, но – увы – из-за постоянных дисциплинарных нарушений хлопоты родственников по переводу в Пажеский корпус не увенчались успехом, хотя поводом для отрицательной рекомендации начальник училища почему-то выдвинул недостаточное знание кадетом Маннергеймом русского и французского языков. Густав чувствует себя в кадетском корпусе все хуже и его письмо брату, отправленное еще через пять месяцев, – настоящий крик отчаяния.
Г. Маннергейм – брату К. МаннергеймуФридрихсхамн, 22 марта 1885 г.
Дорогой брат Карл!
Твое письмо от 2 с<его> м<есяца> было очень веселое. Сердечное спасибо за это. Ч<ер>т знает, почему я так долго мешкал с ответом, самая большая причина все-таки мое кошмарное настроение. Я, видишь ли, две-три последние недели был в адски плохом настроении, потому что мне, как обычно, пришлось перенести тысячи неприятностей. Думалось бы, что ежедневная, даже ежеминутная тренировка должна была бы приучить переносить всевозможные дрязги, но могу заверить, что это совершенно не так.
…Мы только что получили табель успеваемости. Я поднялся на четыре балла, и оценки у меня неплохие. Но, хотя я только раз сидел под арестом, причем несправедливо, проклятое начальство оставило скверную оценку по поведению прежней. Это такая огненночертовски свинская компания, такой дьявольский сброд, что это невозможно даже вообразить. Я весь этот семестр просидел взаперти, и такое будет продолжаться по крайней мере до лета. Тот, кто не сидел пять месяцев в тюрьме, не может даже представить себе, насколько это деморализует и во всех отношениях вредит. Теперь прошло только немногим более двух с половиной месяцев [с рождественских каникул], а я уже много раз был близок к тому, чтобы совершить бог знает какие безумства.
Пасху проведу здесь pro1: потому что никто пока не пригласил меня к себе, и даже если кто-нибудь из Юлинов и пригласил, я бы не поехал, потому что у меня pro 2: нет средств на это, так как на те 25 марок, которые я обычно получаю на дорогу, никуда не доедешь, и я действительно в долгах по уши, даже если бы больше не занимал. За все время Пасхи я не попаду в город. Ну, может, один какой-нибудь раз смогу добыть себе увольнительную. Не представляю, черт возьми, как выдержать в этой школе дольше, чем до конца года. Охотнее, в тысячу раз охотнее буду подметальщиком улиц в каком угодно захолустье, чем кадетом во Фридрихсхамне.
Вот здорово, что Бахус наконец женился. Можешь передать ему мои поздравления устно – ибо я даже при всем желании не в силах написать ни одного радостного слова.
Во вторник через неделю у нас начинаются пасхальные каникулы. Куда ты намерен поехать на каникулы? От Папы получил письмо; он очень хочет знать, что у тебя слышно. Прилагаю его эпистолу к этой.
Ну, прощай, братец. Пиши скорей, потому что я скоро в этом аду совсем ошалею.
Твой преданный брат Густав[17].
Но все-таки Густав выдержал еще целый год до того дня – это была страстная пятница, 23 апреля 1886 года, – когда, уложив вместо себя в кровать свернутую из шинели куклу, отправился в самоволку. Единственное место в городе, где он мог искать утешения, был кабак при городском постоялом дворе. На следующее утро его обнаружили спящим в доме вчерашнего собутыльника, начальника городской телеграфной станции Агафона Линдхольма, пользовавшегося сомнительной репутацией. В результате этого ночного приключения Густава без лишних разговоров исключили из корпуса с формулировкой «за аморальное поведение». Отцу Густава все же разрешили подать прошение о добровольном отчислении сына. Это спасло Густава от «волчьего билета», давая ему возможность поступать в другие учебные заведения, в том числе военные[18].
В то время вряд ли кто-нибудь провидел в юном нарушителе дисциплины будущего маршала Финляндии, президента Финляндской республики и – пускай это звучит высокопарно – спасителя отечества… Серьезная на тот момент жизненная неудача обернулась счастливым случаем, решившим всю будущность Густава Маннергейма, и через 60 с лишним лет он напишет об этом в мемуарах: «На прощанье я сказал своим товарищам по корпусу: теперь я поеду в Петербург, в Николаевское кавалерийское училище, а потом поступлю в кавалергардский полк! Этот шаг, хотя я тогда этого ясно и не сознавал, стал решающим для моего будущего, поскольку он вывел меня из круга ограниченных возможностей моей родины и дал возможность сделать карьеру в других, более значительных условиях»[19].
Той же весной семью вновь постигло большое горе – в Петербурге, в лазарете Смольного института, умерла самая младшая из детей, Анника. В 1884 году родственникам при помощи влиятельных петербургских знакомых удалось пристроить ее в Смольный институт, где живая и талантливая девочка страдала от одиночества, тосковала по дому, беспрерывно болела и, в конце концов, угасла. Она писала трогательные послания брату Карлу и сестре Еве.
А. Маннергейм – брату К. МаннергеймуНадбелье, 8 августа 1885 г.
[усадьба друзей семьи Дашковых, где Анника гостила в каникулы]
Дорогой Калле!
Думаешь ли ты приехать в Петербург будущей зимой? Я не могу сделать рождественских подарков, потому что каникулы в институте только неделю или две, из которых лишь три дня позволено провести вне его стен. Остальное время нужно быть внутри. … Ты не можешь даже представить, как радостно получать письма из Финляндии. Еще не знаю, в какой класс пойду в этом году. Знаю только одно: при выходе отсюда я буду не намного умнее, чем при поступлении сюда. Я всегда считала, что здесь не особенно многому научишься. А сейчас слышала и от многих других, что здесь совсем ничему не учат. Так что мечтать совершенно не о чем. Буду терять здесь время, пока мне не исполнится 19, а после этого лучше оставаться в России – что я стану делать со своими знаниями из русской истории и грамматики в Финляндии или Швеции? Похоже, что вся моя блестящая будущность строится на том, что из меня получится домашняя учительница в семье русского генерала (или какого-нибудь другого русского таракана), и всю оставшуюся жизнь я проведу в России.
…В институте все мои письма читают (и те, которые пишу, и те, которые получаю). Финский пастор переводит их классной надзирательнице. Если я напишу об институте что-нибудь плохое (например, что еда невкусная), мне приходится переписывать все письмо заново. Поэтому не верь тому, что я оттуда пишу. Если же ты напишешь что-либо, что им не понравится, я никогда не получу твоего письма.
До свидания, дорогой Калле, и передай привет всем от твоей преданной сестры Анники.
А. Маннергейм – сестре Е. МаннергеймСмольный, 9 февраля 1886 г.
Милая Ева, огромное спасибо за портрет Августа. Не могла написать раньше, потому что опять болела. Ужасная тоска быть все время взаперти в этом Смольном.
Вижу только белые стены Смольного – и даже ни крохотного кусочка Петербурга. Поскольку я до сих пор не говорю по-русски, я попала в класс, где девочки ничего и ни о чем не знают, грязнули, и у них нет даже манер. Меня они терпеть не могут. Они считают меня франтихой, потому что у меня нет, как у них, черноты под ногтями. Они похожи на поросят. К тому же я старше всех в классе и выше ростом, так что можешь себе представить, до чего у меня неприятная тут жизнь.
…За всю зиму я только один раз была на улице, поэтому ты даже не представляешь, как странно мне кажется видеть солнце. Как будто я в тюрьме… и тогда я начинаю думать о Финляндии, Лоухисаари, и обо всех вас. Да, обо всем, кроме Смольного. И перестаю, только когда расплачусь. Кажется, что до лета целая вечность. Тогда я попытаюсь нагнать все, что потеряла за зиму, потому что здесь ничему новому не научилась. Если бы я могла избежать возвращения сюда и поехать с тобой в школу в Стокгольм. Это, должно быть, невозможно – и все-таки это мой единственный воздушный замок…[20]
Карла вызвали к больной сестре в Петербург телеграммой, но он опоздал – Анника умерла за несколько часов до его приезда. Гроб с ее телом Карл доставил в Лоухисаари, и Аннику похоронили в фамильной усыпальнице. Густав в это время готовился к поступлению в лицей и на похороны не поехал. Видимо, в это время в его характере происходит какой-то перелом. Отныне он будет «с непреклонной энергией стремиться вперед»: все остальное, даже судьба близких, навсегда отходит на второй план.
Г. Маннергейм – сестре С. МаннергеймГельсингфорс, 19 мая 1886 г.
Дорогая София!
Только что получил твою телеграмму, милая сестра. Даже при всем желании не попадаю на похороны. Во-первых, у меня нет денег на поездку, и я не представляю, как их добыть. Во-вторых, у меня нет черной одежды, которая, наверное, обязательна на похоронах. В-третьих, мне нужно изо всех сил заниматься, чтобы осенью поступать в какое-нибудь русское военное училище, и из-за этого мне трудно пожертвовать тремя днями, которых поездка потребует, по меньшей мере. Как видишь, милая София, желание приехать у меня не отсутствует, но на пути встали действительно большие препятствия. О смерти Анны, нашей любимой сестрички, я получил известие уже вчера вечером, когда Карл телеграфировал из Питера, куда он, к несчастью, успел на пару часов слишком поздно. Да, милая София, для нас жестокий удар, что мы потеряли нашу младшую сестру, ведь нам, кроме друг друга, некого любить и не на кого опереться. Но, наверное, нам нужно считать ее судьбу счастливой – что она, едва ли успев вкусить радостей или горестей жизни, уснула и ушла к той, которая по ту сторону могилы встречает своих детей. Анна из всех нас первая смогла встретиться с мамой, и это отнюдь не может быть несчастьем, хотя ей и пришлось уйти, не простившись со своими близкими.

