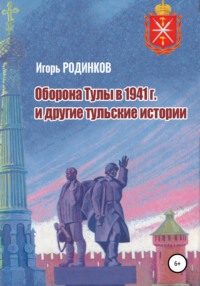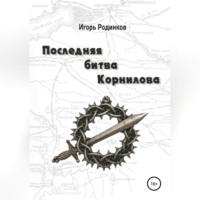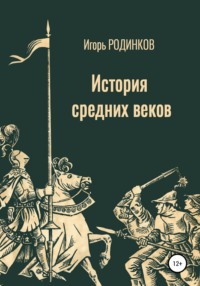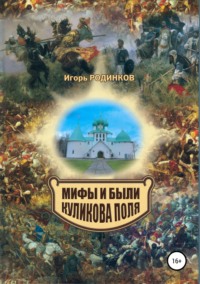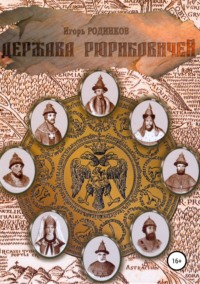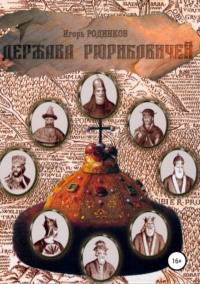Полная версия
Держава Рюриковичей. Вторая часть
Чтобы представить, от какого врага нас спасли Господь и Пресвятая Богородица, нужно знать, что Тимур не потерпел ни одного поражения, а его завоевания сопровождались жестокостями, не уступавшими, а, пожалуй, даже превосходившими жесткости Чингисхана, Батыя, Хулагу и других монгольских завоевателей XIII века. О систематических и массовых убийствах, совершенных Тимуром, свидетельствуют следующие факты. В 1387 г. во время похода в Иран по его приказанию в городе Исфаган было обезглавлено 70 тыс. человек мирного населения, из голов которых была сложена колоссальная пирамида. В Индии в 1398 г. Тимур приказал умертвить 100 тыс. пленников, так как их было обременительно вести далеко в Среднюю Азию. Массовое избиение мирного населения было произведено в Багдаде, где в 1401 г. в один день было убито 90 тыс. человек. При малейших попытках сопротивления покоренного населения Тимур приказывал погребать людей заживо. Так, например, в 1389 г. он расправился с жителями Себзевара (в Хорасане), приказав своим воинам закладывать битым кирпичом и известью брошенных в канавы живых людей и возводя таким образом из трупов целые стены.
Но даже после своей смерти Тимур угрожал людям войною. В Средней Азии существовала легенда, якобы записанная в старинной книге, рассказывающая: «кто вскроет могилу Тамерлана – выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Кроме того, надгробная надпись на нефритовой плите могилы Тимура гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Исторически достоверен тот факт, что гробница Тамерлана в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде была вскрыта советскими учёными 21 июня 1941 года, а прах Тимура археологами был перевезен в Москву. Но в октябре 1942 года по личному приказанию Сталина прах Тамерлана решено было вернуть обратно в могилу. Это было осуществлено 19-20 ноября 1942 года; в эти дни произошел перелом в Сталинградской битве.
Составленная из разных национальных элементов, сколоченная грубой военной силой, не имевшая определенной единой базы, империя Тимура была эфемерной и кратковременной. Уже после смерти Тимура она начала распадаться. Сын и преемник Тимура, султан Шарух (1405–1447), оставил под своим контролем только Среднюю Азию, Афганистан и Иран. Он перенес свою столицу в город Герат (в Хоросане), выделив Мавераннахр своему сыну Улугбеку. Внук Тимура, Улугбек, был последним значительным правителем в Средней Азии; его имя связано с основанием большой обсерватории в Самарканде, в которой проводились очень точные вычисления. В его время жил знаменитый поэт и мыслитель Навои, автор известной поэмы «Фархад и Ширин». Улугбек правил с 1409 по 1449 год. Причем последние два года, после смерти султана Шахрана, Улугбек был султаном всего тимуридского государства. Но в 1449 г. он был свергнут и убит своим сыном. Спустя 20 лет Мавераннахр и Хорасан окончательно разделились.
Решительный удар по державе Тимура был нанесен узбеками. Узбеки представляли собой соединение различных племен, кочевавших в степях Средней Азии. Они раньше входили в состав Золотой Орды и называли себя узбеками по имени золотоордынского хана Узбека. Их основным занятием было скотоводство. К началу XVI века узбеки объединились под властью хана Шейбани. При нем они проникли в Междуречье Амударьи и Сырдарьи, стали оседать в плодородных долинах и переходить к земледелию. Шейбани завоевал Самарканд, а затем Бухару и подчинил себе все владения потомков Тимура. Однако у узбеков не сложилось централизованного государства; их владения разбились на несколько государств, во главе которых стояли отдельные узбекские ханы – между которыми шли постоянные феодальные войны. При узбекских ханах Самарканд утратил свое значение столицы, и столицей стала Бухара. Самостоятельное узбекское ханство образовалось в XVI веке также в Хиве. Наряду с узбеками, в XVI веке в Среднюю Азию с верхнего течения Енисея проникают киргизы. Часть киргизов оставалось на берегах Енисея еще в XVII веке.
2. Борьба с Витовтом и нашествие Едигея. В любом случае появление на исторической арене Тимура оказалось весьма благоприятным для Руси. Он нанес Золотой Орде такое поражение, от которого она не могла оправиться более 10 лет. Князь Василий Дмитриевич по совету молодых бояр воспользовался сложившейся ситуацией и не стал платить дань в Орду. Он не думал ехать в Орду на поклон и даже перестал туда посылать посольства с подарками. Кроме того, ему удалось заключить союз со ставленниками Тимура в Золотой Орде, ханами Темир-Кутлугом, Шадибеком и мурзой Едигеем, против Витовта и бежавшего в Литву Тохтамыша.
Теперь для Русской земли и Москвы наиболее опасным становиться западный сосед – Литва. Литва, как мы помним, в 1386 г. заключила унию с Польшей, закрепленную династическим браком литовского князя Ягайлы и польской королевы Ядвиги. И хотя Ягайло, приняв имя Владислава, начал поддерживать католическую экспансию, ввести Великое княжество Литовское в состав Польского королевства ему не удалось. Уния очень плохо воспринималась не только огромным большинством православного русского населения, но и представителями языческой литовской знати. Удельные литовские князья боролись с политикой Ягайлы, и бежавший из плена двоюродный брат Ягайлы, Витовт, сын Кейстута, принял в этой борьбе живейшее участие. В 1392 г. он возглавил Великое княжество Литовское.
Вначале внимание Витовта было отвлечено на войну с немецкими Орденами в Прибалтике. Но, заключив в 1394 г. мир с немцами, литовский князь вновь обращает свои взоры на восток. В 1395 г. он захватывает Смоленск. В связи с тем, что московский князь Василий I проводил вначале пролитовскую политику, борьбу с Литвой возглавил рязанский князь Олег (тесть смоленского князя Юрия). После Смоленска Витовт обратился к Новгороду и потребовал от новгородцев подданства. Однако в этот момент внимание князя отвлекли ордынские дела. Тохтамыш, потерпев поражение от Тимура и его ставленников, обратился за помощью к Витовту. Литовский князь согласился помочь на условиях, что, утвердившись в Орде, хан поможет Литве овладеть Москвой. Так утвердился новый антимосковский альянс, грозивший Василию I не меньшей опасностью, чем прошлый союз Мамая с Ягайло.
Однако события 1399 года помешали осуществиться этому союзу. В этом году навстречу Витовту и Тохтамышу, которые собрали огромное войско и двинули его в Подолию, вышел новый хан Золотой Орды, Темир-Кутлуг, с небольшим татарским отрядом. Оба войска встретились на реке Ворскле. Витовт потребовал безоговорочной капитуляции, ведь у него было около 100 тыс. человек: литовцев, белорусов, поляков и немецких рыцарей. Темир-Кутлуг ввязался в переговоры, стараясь оттянуть начало битвы, поскольку ожидал, когда к нему на помощь подойдет из причерноморских степей мурза Едигей. Когда наконец подошел Едигей со своим войском, тот тоже ввязался в переговоры и на требование Витовта покориться ему и чеканить в Орде монету с его изображением насмешливо ответил: «Хан наш справедливо мог признать тебя отцом: ты старше его летами, но моложе меня. Покорись мне, плати дань и на литовских деньгах изображай печать мою!»
Взбешенный таким ответом, Витовт прервал переговоры и двинул свои войска на татар. Едигей, выставив против огромного войска врага свой небольшой отряд, начал медленное отступление. Литовская артиллерия не могла нанести большого ущерба разбросанным татарским отрядам. А тем временем Темир-Кутлуг со своим отрядом совершил глубокий обход и оказался в тылу войск Витовта. Он ударил литовцам в спину, вызвав панику. Побежало все войско Витовта. Началось его избиение. Татары беспощадно резали, топтали, забирали толпами в плен усталых и оторопевших воинов. Одних князей убитых летописец насчитывает до двадцати. Едва ли спаслась треть литовского войска. Татары гнались за бегущим войском Витовта 600 верст до самого Киева, предавая все на своем пути страшному разорению. Но опустошением части Литовского княжества дело и кончилось: татары, видно, уже были не в силах поработить всю Литву и обложить ее данью. Интересно, что сам Тохтамыш в битве не участвовал, он предпочел увести свое войско вдоль южнорусской границы в Сибирь.
Одержи Витовт победу над татарами на Ворскле, подобную Куликовской, он вошел бы в такую силу, что Москве и другим русским княжествам не было бы возможности устоять против него. Разгром Витовта позволил рязанскому князю Олегу вместе со смоленским князем Юрием отбить в 1401 г. Смоленск. Но в 1402 г. умер главный соперник Витовта на востоке, Олег Рязанский, и литовский князь, набрав силы, возобновил натиск на русские земли. Опять разгорелась борьба за Смоленск. Первая осада Смоленска в 1404 г. завершилась для литовцев неудачно. Литовское войско семь недель безуспешно осаждало крепость, обстреливая ее из пушек, а затем отступило. Отразив натиск, смоленский князь Юрий поехал в Москву за поддержкой. Но в его отсутствие смоленские бояре изменили князю, и, когда литовцы вновь подошли к городу, они открыли ворота врагу. Правда, их надежда на управление городом не сбылась, поскольку Витовт везде поставил своих наместников. Так крупнейшая русская крепость, «западные ворота» Русского государства, на 110 лет вошла в состав Великого княжества Литовского. Поучительна судьба смоленского князя Юрия: лишившись княжества, он удалился в один пустынный монастырь под Тулой (Никольский Венев-монастырь).
Ободренный смоленским успехом, в 1405 г. Витовт напал на Псков. Псковичам с помощью новгородцев удалось отбиться. Но ни те, ни другие не надеялись справиться с Литвой собственными силами и потому попросили помощи у Москвы. Реальная опасность перехода огромных русских территорий на севере под власть Литвы заставила Василия Дмитриевича пересмотреть союзные отношения со своим тестем. На сей раз Москва стала вооружаться, разорвав союз с Витовтом. В 1406 г. московское войско, в состав которого вошли ордынские полки хана Шадибека, встретилось с армией Витовте на реке Плаве, где было заключено временное перемирие. В следующем году литовские войска взяли Одоев, а московские вторглись в литовские владения и захватили город Дмитровец. Кульминацией московско-литовской войны (1406–1408) стало стояние на реке Угре (приток Оки). Настала решительная минута, когда могла повернуться судьба народов Восточной Европы. Однако после нескольких стычек москвичи и литовцы все же не решились на крупное столкновение. Простояв много дней друг напротив друга, они заключили перемирие, по которому границей между Литвой и Московским княжеством стала река Угра. Смоленск и так называемые Верховские, или Верхнеокские, княжества (Перемышльское, Воротынское, Новосильское, Одоевское и Белевское) остались в составе Великого княжества Литовского. Внутренние дела в княжестве, а также начавшаяся борьба с Тевтонским орденом отвлекли Витовта от продолжения натиска на восток. Так закончилась в княжение Василия I борьба с Литвой. Но как только было подписано перемирие с Литвой, неожиданный удар нанесла Золотая Орда.
В то время в Орде всеми делами заведовал мурза Едигей. Он стал напоминать Москве, что надо рассчитаться по дани, но Василий I не реагировал на его требования. Не имея смелости явно напасть на Москву, он дал знать Василию, что со всею Ордою хочет ударить по Литве. Но внезапно, к ужасу москвичей, он с огромными силами устремился к Москве. Василий Дмитриевич поступил точно так же, как его отец во время нашествия Тохтамыша, с той лишь разницей, что поставил защищать город своего дядю – героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго. Уехав в Кострому собирать войско, он надеялся, что Москва с ее крепкими стенами и пушками продержится долго. Владимир Андреевич сжег посады вокруг Кремля, чтобы не дать прикрытия татарам, и изготовился к бою. Татары в конце ноября осадили Кремль, но приступы делать опасались. Едигей, возлагая надежды на сепаратизм Твери, потребовал от нее военной помощи. Но тверской князь Иван Михайлович не стал помогать захватчикам. Тем не менее Едигей все же решил зимовать под Москвой, чтобы одолеть защитников с помощью голода. Между тем татарские шайки, рассыпавшись по великокняжеским областям, начали опустошать города, села, церкви и монастыри. Татарские отряды разорили города Нижний Новгород, Ростов, Переяславль, даже знаменитая Троицкая обитель была опустошена татарами. Но в монастыре татары не нашли никого. Дело было в том, что игумену монастыря, преподобному Никону, во время молитвы, явился св. Сергий Радонежский и объявил, что по судьбам Божиим татарское нашествие коснется обители, но только она не будет совершенно опустошена и после распространится еще более. Поэтому Никон с братией, церковными и монастырскими вещами скрылся из монастыря на это время.
Едигей простоял под Москвой три недели. И когда уже почти истощились хлебные запасы, Едигей внезапно снял осаду города и ушел назад в Орду, взяв с москвичей большой откуп (3 тыс. рублей). Дело было в том, что по Божьему Промыслу в Орде начались усобицы, и он вынужден был уйти. Данный поход стал последним крупным нападением Золотой Орды на Русь. Сам же престарелый Едигей погиб в 1411 году в междоусобной борьбе. После него Золотая Орда начала постепенно раскалываться на ряд независимых ханств.
После Едигея ордынские татары уже не появлялись под Москвой, но набеги на другие русские города делали. Так, в 1411 г. сын свергнутого нижегородского князя Бориса Константиновича. Даниил, тайно привел татарский отряд к Владимиру. Татры подкрались к городу в полдень, во время послеобеденного отдыха жителей, и без труда овладели им, избив множество людей, затем зажгли его со всех сторон и предались неистовому грабежу. При этом значительная часть их устремилась к соборной церкви Владимирской Божией Матери, чтобы разграбить ее. Но священник Патрикий успел спрятать сокровища храма. Татары стали пытать его. Они ставили его на пылающую сковороду, вбивали щепы за ногти, сдирали кожу, но Патрикий не сказал им ни слова. Тогда татары привязали его к хвосту лошади и влачили по городу, пока доблестный пастырь не испустил свой дух. Такие же отдельные разбойнические набеги татарских царевичей и князей-предателей имели места и в других частях Русской земли.
Последние годы правления великого князя Василия I Дмитриевича прошли спокойно, без войн и расширения территории Московского княжества. Скончался князь в 1425 году, пережив своего отца по возрасту на пять лет. Он представлял собой достойное продолжение дипломатической линии своего деда и прадеда. Два столетия вассальной зависимости, постоянное нахождение между литовским молотом и ханской наковальней воспитали в московских политиках такие качества, как терпение, скрытность, осторожность, расчетливость и настойчивость. Для них главными были не сроки, а цели. Василий I не спешил, надеясь на своих потомков. И в этом плане он не ошибся.
Что касается Витовта, то смерть Василия I развязала ему руки на востоке, ведь, умирая, Василий Дмитриевич «поручил» свою жену и десятилетнего сына вниманию своего тестя. Сделавшись законным опекуном московского великого князя, Витовт начал энергично проводить политику подчинения себе всех остальных русских княжеств. Вскоре после смерти Василия он сумел заключить союзные договоры с двумя главными соперниками Москвы – Тверью и Рязанью.
К концу 20-х годов XV века Витовт сумел устранить препятствия к расширению территории своего государства и со стороны немецкого Тевтонского Ордена, после Грюнвальдской битвы, и со стороны Руси. Следующий его шаг был связан со стремлением избежать зависимости от Польши. Великий князь уже хлопотал перед немецким императором о пожаловании ему королевского титула, когда в помыслы человеческие вмешались природа и Промысел Божий. В 1430 году Витовт умер, достигнув возраста 80 лет (он родился в один год с Дмитрием Донским). Со смертью этого великого государственного деятеля Литвы в его княжестве начались внутренние смуты.
Из книги В.Д. Сиповского «Родная старина» о быте русского народа при татарских погромах и поборах: «От погромов татарских и поборов бедность, нищета и горе были повсюду. Хоть народу стало легче, когда вместо татарских сборщиков стали русские князья сами собирать дань и отвозить ее в Орду; но и князья принуждены были брать с народа своего очень много, чтобы насытить корыстолюбие ханов, их жен и ханских вельмож. Кроме прямой дани, приходило еще установить разные налоги и пошлины. За право торговли, за провоз товаров должны были платить известные налоги, собирались пошлины с разных промыслов: с рыбных ловель, с мельниц и пр. Со всех почти промыслов и занятий шли пошлины. Прежде до татарского нашествия этого не было: платили только дань князьям, да и то небольшую. Понятно, что с владычеством татар не могли на Руси процветать ни промыслы, ни торговля.
Бедность да неволя вредили сильно и нравам. Бедняки привыкали унижаться, прибегать к разным уловкам и обманам, чтобы соблюсти свои выгоды. Торговцы, платившие большие пошлины, старались купить товар за бесценок, а продать втридорога. Ремесленники, которым давали купцы слишком низкую плату за их изделия, не старались улучшать их, а заботились только о том, как бы побольше да поскорее наработать товару да сбыть как-нибудь с рук долой. Сложилось даже убеждение, что без обману ни в торговле, ни в промыслах обойтись нельзя. Безысходная нужда побуждала многих к нищенству: «ходить по миру» многим, даже и здоровым людям, казалось более выгодным промыслом, чем какая-либо работа. Богатство, достаток были в те времена только приманкою и для хищных татар, и для других «лихих людей». Зажиточному человеку, чтобы не нажить беды какой-либо, приходилось скрывать свое имущество, прикидываться бедняком, а «с босого да нагого – взятки гладки»! В те злосчастные годы привыкали люди жить кое-как, перебиваться изо дня в день, не заглядывать в неверное будущее, – являлась беспечность, привычка жить на авось. Но по пословице «нужда слабого мнет, а в крепком волю кует» мы видели уже, какие сильные духом подвижники являлись в те тяжелые времена. Но и из тех, которые не уходили от мирской жизни, немало было людей сильных, крепких волею. Среди всяких бед и невзгод складывались нравы русского народа и свойства: сметливость, находчивость, изворотливость и та необычайная выносливость, которая и до сих пор удивляет иноземцев в русском человеке. «Голь на выдумки хитра», «Нужда научит калачи есть!» – говорит наш народ в своих пословицах. Научился он подсмеиваться, хоть иной раз и горько, над своим горем-злосчастием. «Наготы, босоты изувешены шесты; холоду да голоду амбары полны», «Шапка волосяная, рукавицы своекожаные», – говорит народ в пословицах о своей бедности.
Не только в народе была бедность, была она и в других сословиях; таких богатых людей, какие встречаются в наше время, тогда и в помине не было. Даже великие князья того времени были не богаче нынешних крупных помещиков».
III
. Великое княжество Московское в княжении Василия
II
Васильевича («Темного»)
1. Флорентийская уния и разделение Русской Церкви. Падение Константинополя. Первая половина XV века характеризовалась важными изменениями в истории Русской Православной церкви. Начнем с того, что в начале XV века в Литве католики добились больших успехов. После Грюнвальдской победы Литвы и Польши над немецкими крестоносцами, в 1413 г. между обоими государствами была подписана Городельская уния. Польша и Литва соединялись в одно государство на тех условиях, что Литва будет всегда иметь своего особого великого князя и свое особое управление. При этом литовское дворянство уравнивалось в своих правах с польским. Но означенным правом могли пользоваться только те литовские дворяне, которые принимали католичество. После смерти Витовта права католиков в Литве еще больше усилились. Между сыном Ольгерда, Свидригайло, придерживающимся православной ориентации, и братом Витовта, Сигизмундом, опирающимся на католиков, началась борьба за титул великого князя литовского. В этой борьбе победил Сигизмунд. В 1432 г. он издал указ, в соответствии с которым православные русские князья и бояре уравнивались в правах с католиками. Но вскоре Сигизмунд сам пал жертвой заговора. Великим князем был провозглашен в 1440 году сын Ягайлы – Казимир, а после того как его брат, польский король Владислав III, погиб в битве с турками при Варне, Казимир занял еще и польский трон, уравняв в правах своих польских и литовских подданных. После этого многие литовцы перекрестились из православия в католичество и Литва превратилась официально в католическое государство.
А вот в Москве, которая также управлялась внуком Витовта, сыном Софьи Витовны – великим князем Василием Васильевичем, попытка католиков достичь победы осталась безрезультатной. В 1406 году умер митрополит Киприан, занимавший Московскую кафедру с разными перерывами с 1378 года. Как известно, из-за своей пролитовской ориентации он был во вражде с великим князем Дмитрием Донским, но вот с его сыном, великим князем Василием Дмитриевичем, тестем литовского князя Витовта, он был в мире и согласии. При нем уже шли хлопоты об устройстве в Литве особой митрополии. Но после смерти Киприана снова начинается разделение в Русской церкви, потому что Москва опять рассорилась с Литвой. Стоит напомнить, что тогда юрисдикция Русской митрополии распространялась не только на Северо-Восточную Русь, но на Великое княжество Литовское. По просьбе Василия из Греции прислали митрополитом старого инока Фотия. Между Василием и Витовтом зашел спор, где должна быть кафедра Русской митрополии: в Киеве или в Москве. Фотий выбрал Москву, тогда в 1414 году Витовт собрал собор из литовских епископов и настоял на избрании для Литвы особого митрополита. Им был избран Григорий Цамблак, родом серб, племянник митрополита Киприана. Но после его смерти в 1419 г. Русская церковь опять соединилась под властью Московского митрополита Фотия.
После смерти митрополита Фотия (1431 г.) великий князь и собор епископов нарекли митрополитом рязанского епископа – Иону, ревностного пастыря и человека высокого благочестия. Но в Литве выбрали своего кандидата на митрополию, смоленского епископа Герасима; однако в 1435 г. литовский князь Свитригайло сжег его в Витебске по подозрению в измене. После его смерти Иона отправился в Грецию за посвящением, но, когда прибыл туда, император Иоанн Палеолог и патриарх Иосиф известили его, что он опоздал и что в Москву в качестве нового митрополита уехал Исидор, а ему пообещали митрополию только после Исидора. У греков тогда самой актуальной проблемой была борьба с турками-османами, поэтому они всячески стремились к заключению церковной унии с Римом, пытаясь таким способом получить от Запада военную помощь. С этой целью и поехал из Константинополя в Москву митрополит Исидор.
Византийская империя, едва восстановившаяся в ослабленном виде после четвертого крестового похода, вынуждена была вести непрекращающиеся войны с турками-османами. Первоначальной родиной турок была Средняя Азия (Туркестан), где они с давних времен славились своей большой воинственностью. Отсюда на народы Европы и Азии выплескивались волны турецких движений. Первую волну этого движения составили турки-сельджуки, которые в середине XI века завоевали большую часть арабских владений. Турки переняли от арабов ислам и препятствовали возникновению государства крестоносцев в Палестине. В конце XIII века на северо-западе Малой Азии, на территории распавшегося государства турок-сельджуков, образовалось новое воинственное государство во главе с князем Османом. Объединенные под его властью племена стали называться турками-османами. Позже глава Османского государства принял титул султана. Вначале турки-османы начали совершать грабительские набеги на Балканский полуостров против болгар и сербов. Константинополь, охваченный со всех сторон турками, благодаря своим крепким стенам и постоянным богатым дарам, подносимым султанам, сохранял еще независимость. Но уже в 1361 г. султан Мурад I захватил у Византии Адрианополь и перенес сюда свою столицу из Азии. Император должен был признать себя вассалом султана и платить ему дань, а также участвовать в его походах. При Мураде был учрежден корпус «янычар» – отборной турецкой пехоты, набиравшейся исключительно из христианских детей, воспитанных турками в самой большой ненависти к вере их отцов.
Утвердившись в Адрианополе, Мурад стал деятельно готовиться к полному порабощению южных славян. Сначала он вторгся в Болгарию. Почти каждый город туркам приходилось брать с боем. Но болгарские князья не сумели объединиться для отпора завоевателям, и в XIV веке Болгария попала под власть султана. Подчинив Болгарию, турки обрушились на Сербию. Решительная битва произошла в 1389 году, в самый год смерти Дмитрия Донского, в самом центре страны – на Косовом поле. У турок было в три раза больше войск, чем у сербов. Силы сербов были ослаблены раздорами между князьями. Многие князья не явились со своими отрядами на поле боя, другие лишь наблюдали за ходом битвы. С самого начала сражение было очень ожесточенным. Во время боя храбрый сербский патриот Милош Обилич, идя на верную смерть, пробрался в турецкий лагерь и поразил мечом султана Мурада. В стане турок возникло замешательство. Сербы начали теснить врага. Но сын султана ввел в бой свежие отборные войска. Турки разгромили сербов, захватили в плен и убили их короля Лазаря Сербского.