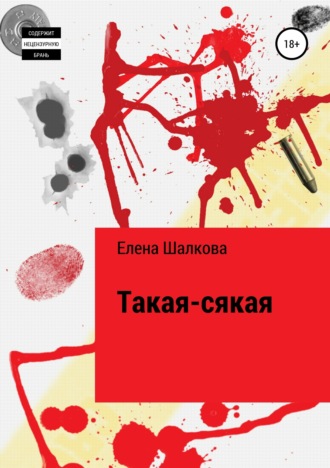 полная версия
полная версияТакая-сякая
К сожалению, липовые командировочные удостоверения Динина мама могла сделать лишь один раз. Поэтому гостиничные мытарства продолжились, но вместе с ними продолжилось и вынужденное знакомство с Ленинградом.
Ненадолго приютила Рому и совсем расхворавшуюся Дину гостиница «Ленинградская» (бывшая «Англетер»), расположившаяся в обнимку с «Асторией» на Исаакиевской площади. Многоместный номер, в котором оказалась Дина, до революции, скорее всего, был залом. После снятия Блокады в нем разместили нуждающихся в уходе ленинградцев. Заботливый Рома, желая побаловать больную жену, купил в буфете гостиницы черную икру, но разбухший нос, потерявший обоняние, предательски лишил Дину единственного в ее положении удовольствия.
Какое-то время Дина с Ромой прожили в маленькой гостинице «Северная» рядом с площадью Восстания. Туда им помогла устроиться сослуживица, умеющая расположить к себе нужных людей. Все это время больная Дина в мрачном казематном номере без удобств конспектировала двухтомный учебник по истории СССР издания Академии наук.
Однажды, добираясь на трамвае до очередной гостиницы, Дина долго смотрела на далекий лазурный Николо-Богоявленский морской собор. Еще не верующая в Бога Дина чисто эстетически любовалась барочными излишествами, а ликующие над куполами птицы возвещали наступление весны, а, значит, и конец простудам.
Вместе с весной появилась надежда устроиться в приличной гостинице с удобствами в номере. Но гостиничный ГУЛАГ своих традиций не менял. Он давно установил два вида дохода: доход государству – в основном за счет интуристов, и личное кормление всей бюрократической цепочки, в нижнем своем звене – за счет вложенной в паспорт поселяющегося денежной купюры. Простой советский человек мог рассчитывать только на снятый с брони номер или на разовый ночлег с двенадцати ночи до восьми утра. Гостиница «Советская», первое в Ленинграде высотное здание, несмотря на свои размеры, не была исключением. Дина и Рома – вместе с верящими в справедливость страждущими – часами сидели в холле гостиницы, сверля глазами администратора, которая без зазрения совести то и дело поселяла торгашей в огромных кепках. Она ценила двадцатипятирублевое достоинство бумажки и не признавала достоинства молодой женщины с пороком сердца из Белоруссии, матери троих детей, приехавшей на консультацию к профессору по поводу операции.
В какой-то из своих приездов Дине с Ромой все-таки удалось поселиться в «Советской»: администратор оказалась подругой детства одного из сослуживцев. Местом работы уже давно стал судостроительный завод им. А.А. Жданова. Завтракали в буфете холла. Ужинали в буфете на этаже.
В Ленинграде у Дины созрело решение получить гуманитарное образование. Это надо было сделать еще после первого курса института. Тогда не хватило духу. Пять лет она не получала от учебы никакой радости, кроме радости от общения с людьми.
Набравшись смелости, она приехала на Университетскую набережную Невы в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Узнав о высшем техническом образовании и еще не отработанных положенных трех годах, председатель приемной комиссии растолковал Дине, что государство перед ней ни в чем не виновато. На ее обучение оно затратило много денег – в отличие от абитуриентов, только что закончивших среднее учебное заведение, отслуживших в армии или поступающих по направлению. Даже если через год Дина успешно сдаст экзамены, ее кандидатура на зачисление будет рассматриваться в последнюю очередь, – несмотря на ее золотую медаль.
Нежданная гостиничная устроенность высвободила время для культурного досуга. Неугомонная оптимистичная Дина стала театралкой. В букинистических магазинах она покупала редкие и полезные для ее самообразования книги о театре. В свободные вечера, лежа в теплой кровати, она прочитывала от корки до корки очередной номер толстого серьезного журнала «Театр». Рома не мог нарадоваться на спасительный возродивший Дину из пепла «театральный роман» и волей-неволей втягивался в эту сферу жизни супруги.
Лучший тогда театр города, БДТ им. М. Горького, привечал – в отличие от лучших гостиниц – гостей Ленинграда. Ежедневно администратор выделял для них минимум десять билетов – обычно в партер. Чтобы получить по командировочному удостоверению билет, необходимо было войти в заветную десятку, а значит, подежурить несколько часов около кассы. Пользуясь такой редкой возможностью, Дина с Ромой посмотрели почти все репертуарные спектакли. В теплые вечера они, счастливые, возвращались в гостиницу пешком по набережной Фонтанки. Рома выслушивал первые свежие впечатления, зная, что за ними по размышлении последуют новые, более глубокие, и не переставал удивляться тому влиянию, которое оказывал театр на внутренний мир жены. Сфинксы Египетского моста издалека приветствовали молодых театралов, добавляя напоследок впечатлений, и пристально, по многовековой привычке, всматривались в их исчезающие силуэты. Когда-то слаженный шаг военных привел к обрушению Египетского моста, после чего последовал указ о введении новой на всех мостах команды «идти не в ногу». Два других полюбившихся моста – Банковский и Львиный – перекинулись через канал Грибоедова. Но дальнейшее преумножение любви к Ленинграду и его окрестностям было связано уже с долгожданным стабильным проживанием в частном секторе.
Два дня зимой Дина с Ромой провели в Очакове. Захолустное кафе с безе из асбеста, столь же захолустная в несколько номеров неотапливаемая за ненадобностью гостиница, рядом с ней кинотеатр, куда пришлось сходить, чтобы убить время, а главное – ощущение, что город пуст, его как бы и нет. Только в таком унылом пространстве могли родиться – по мнению драматурга Аллы Соколовой – фантазии Фарятьева, гениально сыгранного Андреем Мироновым в фильме Ильи Авербаха. Если бы не прощальная прогулка по красивейшей главной улице города Николаева, которая в снегопад казалась просто сказочной, настроение так и осталось бы поганым.
Севастополь тоже не оправдал ожиданий, несмотря на то, что и в гостинице сразу устроились, и в Херсонес съездили, и на Малаховом кургане побывали, и повидали все городские красоты. В южные морские города надо приезжать летом, по крайней мере, в первый раз. Что запомнилось Дине в Севастополе? Зал библиотеки, где она читала недавно напечатанный в журнале «Москва» роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Главпочтамт, где на нее долго странно смотрели, а потом спросили, не она ли играла радистку в «Семнадцати мгновениях весны», и Дина ответила: «Я». Запомнилось предновогоднее желание скорее попасть домой. Запомнились – стыдоба! – вкусная сырокопченая колбаса и истекающая жиром скумбрия холодного копчения. Запомнилось, как Рома громким басом звал ее через всю площадь: «Ласточка!», и прохожие с любопытством поворачивали головы в ее сторону.
Были еще Лиепая и Балтийск, где Рома с Диной прижились и не чувствовали себя изгоями. В последнюю командировку, во Владивосток, Рома полетел один: молодая семья ждала прибавления.
***
Через какое-то время после развода Дина собралась с духом и позвонила бывшей свекрови, потому что скучала по ней. Когда она во втором браке родила третьего, позднего, ребенка, благородная Анна Тимофеевна передала со старшими сыновьями подарок – постельное детское приданое. Прошло еще какое-то время, и Дина после долгой разлуки решила повидать свекровь, которая серьезно болела. Уже не приходившая в сознание Анна Тимофеевна умерла фактически у Дины на руках. Неужели она не услышала: «Мама, прости!». Вот и закончилась жизнь, полная забот и любви. Счастливая женская доля незаслуженно обошла Анну Тимофеевну стороной. Почему в отношениях мужчины и женщины большую роль играют внешняя манкость, порок? Почему страдают правильные, чистые, справедливые?
Приехавшая на похороны сестры «тетя Оля» накинулась на Дину:
– Куда ты пропала? Хоть бы позвонила. Как ты могла? Ведь ты нам родная. Ты наша. Мы тебя любим.
Дина была сражена в самое сердце. Оказывается, по ней скучали так же, как и она скучала по всей многочисленной бывшей родне.
Страдающая бессонницей Дина часто подходит ночью к окну и смотрит на многоэтажный дом напротив. В двух-трех окнах горит свет: кто-то начинает свою жизнь, а кто-то заканчивает.
– «Весь табор спит…», – каждый раз мысленно произносит Дина. Отчего она мается? Что томит ее сердце? У нее есть крыша над головой и все, о чем она мечтала в неустроенной молодости. Дело в том, что до поры до времени смысл бьющей ключом жизни не связывался с конечностью земного бытия. А теперь связался…
Уж дни мои теченье донесло
В худой ладье, сквозь непогоды моря
В ту гавань, где свой груз добра и горя
Сдает к подсчету каждое весло.*
*Микеланджело Буонарроти.
«Вычеркнуть из памяти» и др.
Этот кусок ее жизни назывался Балтийск. В геополитическом смысле Балтийск – закрытый до 1998 года город, западная оконечность России, бывший Пиллау Восточной Пруссии, ставшей по аннексии Калининградской областью. Окруженный балтийскими водами полуостров, на котором расположился город, издревле привлекал к себе внимание европейских правителей, начиная со Швеции и кончая Россией. Готические очертания и красная черепица архитектурных сооружений, руины крепостей и бастионов вкрапляются в облик российского города как память о чужеродных предках.
После негостеприимного Таллина, где необстрелянным молодым специалистам пришлось жить вместе с портовыми работягами на плавучей барже «Черная Ляля», Балтийск показался просто раем. Поселились Дина с мужем в единственной тогда гостинице «Золотой якорь», расположенной недалеко от места их работы – святой святых Балтийска – базы военно-морского флота. Построили гостиницу в 1909 году. Ходили слухи, что при немцах в ее стенах находился бордель. В конце Второй мировой войны здесь был пункт эвакуации гражданского населения и раненых солдат Вермахта. Тысячи людей мечтали получить посадочный талон на корабли, уходившие на запад, хотя уж куда западнее…
Первое, что видела Дина, когда выходила из гостиницы, это маленький лоцманский катерок, готовый вывести через канал в Балтийское море или в Калининградский залив военное судно любого размера. Окна гостиницы как раз смотрели на канал. Остановившийся в «Золотом якоре» десятью годами раньше Иосиф Бродский написал:
В ганзейской гостинице «Якорь»,
Где мухи садятся на сахар,
Где боком в канале глубоком
Эсминцы плывут мимо окон,
Я сиживал в обществе кружки,
Глазея на мачты и пушки.
И совесть свою от укора
Спасал я бутылкой Кагора.
В последнее воскресение июля Балтийский канал становился Красной площадью, на которой демонстрировалась вся мощь Балтийского флота. На грандиозный праздник съезжалось много гостей, и пробиться к парапету набережной канала не было никакой возможности. Поэтому Дина с мужем и сослуживцами приходили на генеральную репетицию парада: они имели прямое отношение к боеготовности проходивших мимо кораблей. У Дины эти парады не вызывали никакого верноподданнического патриотизма: Балтийск сыграл огромную роль в ее жизни совсем по другим причинам.
Поначалу любопытная Дина все время останавливалась около необычных чугунных люков вымощенных камнем улиц старых кварталов. Каждый люк с узорами и вензелями готического шрифта казался произведением искусства и свидетельствовал об устоях и порядке кайзеровской Германии. Диссонансом им была полная запущенность оставшихся от немцев построек, в частности, двухэтажных домиков с облупленной штукатуркой, покосившимися лестницами и лысыми пыльными двориками. Вид этих домиков вызывал тоску и жалость. В них жили русские люди, перебравшиеся сюда из сожженных фашистами деревень и разрушенных городов. Прошло тридцать лет после окончания войны, а они все надеялись вернуться в родные места. Очевидно, налаживать хозяйство им не было резону. Бросающееся в глаза плачевное состояние всех городов Калининградской области и отсутствие массового строительства наводили на тревожную мысль о возможности возврата на круги своя, когда Калининград снова станет Кенигсбергом, Балтийск – Пиллау, каждый дом дождется возвращения своего заботливого хозяина, а «русским свиньям» скажут: «Nach Hause!». Подтверждением обоюдности выжидания были письма, которые приходили из Германии на старые адреса. В них содержались указания, как ухаживать за садом, когда что обрезать, чем удобрять и т.п., – простые немецкие люди тоже надеялись вернуться к себе на родину. Вот такое еще одно печальное последствие войны.
Самым притягательным для Дины местом в закрытом Балтийске был пляж: безлюдный, беспрепятственно уходивший вдаль на несколько километров. С зарослями облепихи, пытавшейся сковать своими длинными корнями движение волнистых дюн в сторону города. Недавно Дина прочитала в Интернете, что пляжи Балтийска тянутся почти на сорок два километра.
В акватории Балтийска периодически проходили совместные с поляками и немцами военно-морские учения. Как-то летом Дина с сослуживицей лежали одиноко на песке и ждали, когда вода в море немного прогреется. В это утро им пришлось ощутить, как наяву, то, что пережили в конце июня сорок первого года многие мирные жители нашей страны.
Сквозь сон задремавшая Дина услышала гул и приоткрыла глаза. Конец света! – из жерл огромных десантных кораблей, захвативших все видимое пространство, выползали на воду бронетранспортеры, из которых на берегу выпрыгивали и рассыпались по сторонам, как тараканы, морские пехотинцы. Они тут же раздевались догола, не стесняясь, смотрели на девушек, аккуратно складывали одежду и, гогоча, бежали купаться. Сослуживица приподнялась и обомлела:
– Ты смотри – в чем мать родила. Да они на нас плевать хотели. Ни стыда, ни совести!
От непристойности зрелища Дина зажмурилась. Скрежет гусениц, гул моторов, лающая немецкая речь, крики и хохот разносились по всему побережью. Стало жутко. Как хорошо, что время нельзя повернуть вспять.
Осенью пляж становился местом янтарного промысла. Во время шторма море выбрасывало на берег огромное количество водорослей с запутавшимся в них мелким янтарем. Его «выклевывали», как чайки рыбный мусор из сетей, детишки. Бывалые же добытчики – в плащах и рыбацких сапогах – захватывали большими сочками взвесь водорослей прямо из набегающих волн. Их трофеем был крупный янтарь.
Каждый раз на глазах Дины происходило чудо – холодное мрачное море, которое никак не могло отразить в своих водах лазурное небо, одаривало людей янтарем. Микалоюс Чурленис видел запрятанную от людей красоту этого волшебного моря, издающего на его картинах причудливую мелодию, заманивающую в сказочный мир литовского фольклора. Литовцы очень близки к природе, они ее слышат, она для них живая, как живая и каждая вещь в хуторском хозяйстве. Они в хорошем смысле язычники. Об этом говорит и Музей чертей, об этом говорит (на одном с ними языке) и талантливый Денис Осокин. А то, что его огородные пугала поселились не в Литве, а в соседней Латгалии, не столь важно.
Отработанные водоросли лежали по всему пляжу до тех пор, пока чистюля-ветер их не высушивал и не разносил по своим владениям. Дина тоже нашла несколько камушков, а привезла домой целый килограмм, так как янтарь можно было купить на каждом углу и дешево.
Однажды, обследуя живописные окрестности Балтийска, Дина с мужем попали в заросли странной ягоды ожины. Впоследствии Дина узнала, что ожина – другое название ежевики, употребляемое в основном на Украине и в Белоруссии, и сделала вывод, что украинцев и белорусов в Балтийске не меньше, чем русских, не знавших, как и она, что необычный для ежевики желтый цвет ягод говорит всего лишь о редком сорте. Возможно, немцы специально культивировали этот сорт. Ожины было так много, что пришлось купить керосинку и колдовать над ягодой с сахаром в гостиничном номере, подложив под дверь одеяло во избежание штрафа. Но разве можно сдержать в замкнутом пространстве свободолюбивый запах варенья!
Культурная жизнь Балтийска была сосредоточена в Музее Балтийского флота, Доме офицеров флота и флотской библиотеке.
Один из моноспектаклей Евгения Гришковца, недаром проживающего в Калининграде, – «Дредноуты» – обращен к женской части публики. Благодаря этому спектаклю женщины, наконец, стали интересоваться пассионарными играми и чаяниями мужчин. В семидесятые же годы Гришковец был мальчиком Женей и жил в Кемерово, а еще не просвещенная им Дина, родившаяся, кстати, тоже в Кемеровской области, посетила Музей Балтийского флота только один раз, заинтересовавшись больше не его экспонатами, а архитектурой бывшего здания суда. Но именно этот музей стал первым местом, куда отвела в Балтийске Дина своих сыновей (и тут Гришковец проницателен).
При немцах Дом офицеров назывался «Домом стрелка». Красивой вывеской прикрывалось обыкновенное офицерское казино.
На сцене Дома офицеров выступали многие известные артисты страны. Они с удовольствием приезжали в маленький закрытый город, зная, что их ждет образованная взыскательная публика: офицеры военно-морского флота принадлежали высшей касте командного состава армии.
Знал об этом и Борис Штоколов, народный артист СССР, когда-то сам служивший на флоте и каким-то боком принадлежавший этой же касте, а именно, – ответственностью за свое призвание и взыскательностью к себе, невзирая на состав аудитории. Сколько раз Дина наблюдала гастрольные выступления знаменитостей, позволявших себе панибратски заигрывать с публикой, опускаться до пошлого налета цыганщины. И публика визжала от восторга. В Балтийске Дина не только услышала выворачивающий душу наизнанку бас, но и поняла, что такое Певец с большой буквы. После какой-то арии Штоколов шепотом отчитал девушку-аккомпаниатора за допущенную ею и не замеченную публикой ошибку, опустившую планку исполнения. Популярный романс «Гори, гори, моя звезда» Дина может слушать только в исполнении Штоколова. Богом данный тембр, чувство меры, присущее большим мастерам, и несвойственнаяная для «городского романса» глубина. Когда Дина в первый раз увидела по телевизору статного мужчину, поющего с закрытыми глазами этот романс, у нее ком подступил к горлу. «Бабушка, это кто поет?». «Штоколов».
Отдельный разговор – офицерские жены, где теперь такие жены? Как трудно им найти работу по специальности в закрытом городке! Одно дело – нужные везде врачи, учителя и парикмахеры, другое дело – невостребованные инженеры, юристы, экономисты, филологи и т.п.
Дина с мужем часто обедали в офицерских кают-компаниях. Но для стеснительной Дины предпочтительнее было есть в столовой Дома офицеров, тем более, что на раздаче стояла редкая красавица, вылитая Софи Лорен. Она никогда не улыбалась, не вступала в разговор с посетителями, держалась с достоинством, – дескать, я вам не прислуга. Как-то Дина похвалила еду, – в ответ получила гробовое молчание и еле заметный наклон головы. В этой женщине была какая-то загадка. Каждый раз Дина садилась лицом к кухне и начинала думать примерно так. Может, в жизни этой женщины произошло что-то трагическое, и на ее плечи легла непосильная ноша? Может, ей никак не удается вырваться из замкнутого круга, в который ее загнала судьба? Может, она тоскует по родителям и русским березкам? Может, она страдает оттого, что смолоду мечтала стать актрисой – при ее-то внешности, а оказалась заживо погребенной в чаду и пару подвальной столовой? И именно таких женщин воспел на своих картинах Модильяни?
А может, ей просто оказалась не под силу подвижническая жизнь жены офицера, а остальное – суета Дининого воображения?
Центром духовного притяжения для Дины, конечно, стала библиотека. Ее первичный книжный фонд – около пяти тысяч книг – был доставлен из знаменитой Морской библиотеки Кронштадта. А какие женщины там работали! Одна из них, заведующая и коренная ленинградка, впоследствии стала директором библиотеки Калининградского Технологического института, другая сначала возглавляла Областную Научную библиотеку, а затем работала заместителем начальника Управления культуры Калининграда, третья стала заведующей Отделом искусств Ленинской библиотеки. Вот такой уровень культуры и профессионализма. Дина это поняла в первое же посещение читального зала, когда с ней немного поговорили шепотом, а потом деликатно посоветовали прочитать последний роман В. Каверина «Перед зеркалом». Мое, подумала Дина на первых же строках, и … провалилась…
– Через пять минут библиотека закрывается.
Эта фраза часто прерывала Динино чтение. Она с сожалением сдавала очередной номер журнала «Звезда», где был напечатан роман, и возвращалась к реальной жизни.
Много книг прочитала Дина в этой замечательной библиотеке, но роман Каверина странным образом вплелся в ее жизнь. Однажды, пробегая глазами книжный развал, она неосознанно остановила свой взгляд на заголовке «Перед зеркалом». Ее как молнией прошило. Заветную книжку Дина несла домой с чувством, что теперь очень дорогое и близкое будет всегда с ней. Но книжку пришлось подарить хорошему человеку. Через несколько лет она случайно в каком-то толстом журнале прочитала материал, посвященный прототипам героев, их любви и непростой жизни в эмиграции. Недавно муж купил Дине точно такую же книжку.
Что бы Дина делала без Интернета? Она перекопала все его кладовые и поняла, что с этим романом-матрешкой не все так просто. Книга, которая производит на Дину сильное впечатление, обычно вызывает у нее чисто литературоведческое любопытство. В случае с Кавериным оказалось, что Дина общалась не с автором, не с выдуманной им героиней, а с прототипом, женщиной одной с ней крови, рефлексирующей в письмах по поводу своей жизни и творчества. В Балтийске Дина читала: «Слов нет, когда я возвращаюсь домой в бессолнечные, чуть туманные вечера, начинает казаться, что Париж построен импрессионистами» и думала, до чего же талантлив Каверин, как образно написал. А это были строки подлинного письма талантливой во всем художницы Лидии Никаноровой далекому другу, той тонкой ниточке, которая связывала ее с родиной. Автор своими надуманными литературными интерлюдиямии только мешал. Его заслуга в том, что он свел размеренно живущего советского читателя с судьбой девочки-девушки-женщины, попавшей в водоворот пред– и послереволюционных событий, державшейся на плаву благодаря искусству и оставшейся верной своему призванию. Женщины, как оказалось, очень непростой, которая фактически вела двойную жизнь – реальную и в письмах. И сложная личная жизнь в письмах представлена не совсем правдиво, вернее, необъемно.
Роман стал зеркалом и для Дины. В нем она видела, насколько сама изменилась. Перечитывая роман, она наткнулась на строки, которые когда-то в Балтийске вызвали в ней сильное переживание, и уже размытый в памяти кусочек жизни воскрес во всех деталях. Вот молоденькая Дина перевернула очередную страницу журнала и вдруг остановилась. Она не могла читать дальше: слезы душили ее. В письме из Турции героиня спокойно, как бы между прочим, сообщала, что вышла замуж, муж моложе нее, мало развит, и у него нет ноги. На Дину, которая ждала, что герои, которых жизнь все время разбрасывала в разные стороны, вот-вот соединятся, слова эти обрушились как гром среди ясного неба, убив надежду на хэппи-энд. Встретивший Дину у библиотеки муж шел за рыдающей женой через весь город и молчал. Как трудно было молоденькой девушке понять, что тогда ее обожгло дыхание времени и его дорог, не пройденных благополучными читателями. То, что творил двадцатый век с судьбами людей, не способен придумать ни один писатель.

