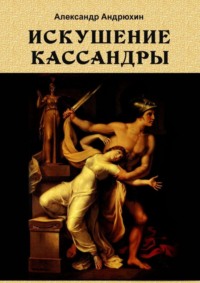Полная версия
Дом с мертвыми душами
– Петрович, центральная усадьба Кузоватово – твой участок? – взволнованно спросил Мартьянов, влетев в дом к Макарову.
– Вообще-то, не совсем, – поморщился участковый. – Мне временно поручено присматривать за поселком, пока не найдут нового участкового…
– Тогда собирайся! – нетерпеливо перебил лейтенант. – И побыстрее! Время не ждет!
– А что случилось? – поднял брови Алексей Петрович, метнув тоскливый взгляд на жену с дымящимся половником. – Я вообще-то только что с дежурства.
– По дороге расскажу.
И по дороге лейтенант рассказал, что полтора часа назад в отдел позвонила некая гражданка Кулибина и сообщила, что ее сосед Федька, который с «приветом», запалил в печи что-то подозрительное. Дым из трубы валит черный, запах приторно-сладковатый, какой бывает в крематории.
– В крематории? – вздрогнул Макаров.
– Именно в крематории, – подтвердил лейтенант. – Чуешь, чем дело пахнет?
– Чую, – сдвинул брови участковый. – Ты говоришь, позвонили полтора часа назад, а почему едете только сейчас?
– Бензина не было. Стояли на дороге – стреляли. Вот так! Ты мне скажи, что это за Федька, который с «приветом»?
– Ну есть, такой дурачок в Кузоватово. Он с детства мешком напуганный. Когда умерла его мать, Федьку поместили в Карамзинку. А потом выпустили. Сейчас он живет один. Самостоятельно ведет хозяйство. Никакой агрессии за ним не наблюдается.
– Не наблюдается, говоришь? Ну-ну!
Через двадцать минут машина прибыла в центральную усадьбу. Она сбавила ход, потушила фары и направилась на окраину села к дому дурачка. Свет в доме горел. Как только машина притормозила неподалеку от ворот, из темноты выскочила пожилая женщина в пуховой шали.
– Ой, наконец-то! – воскликнула она, прильнув к окошку. – Из дома никто не выходил. Я следила. А окна они занавесили.
– Кто они? – подозрительно скривился лейтенант.
– Как кто? Собутыльники Федькины: Анохин Гришка и Кудрявцев Антон.
Лейтенант принюхался. Не пахло никакой гарью, и все вокруг было тихо и мирно. Он нахмурился и вылез из машины.
– Сейчас выясним, – пробормотал командир. – Собаки нет?
– Нет! – сделала страшные глаза женщина. – Но все равно будьте осторожны. Он не любит, когда с ним говорят грубо.
«А кто любит?» – угрюмо подумал лейтенант и, пнув ногой калитку, шагнул во двор. За ним проследовали остальные. Три милиционера и участковый поднялись на крыльцо и вежливо постучали в дверь. Двое, на всякий случай, встали по бокам, а участковый положил руку на кобуру. С минуту царила тишина. После чего послышался скрип открываемой двери в сенях и крадущиеся шаги. Затем все утихло.
– Ну! – не вытерпел участковый. – Подай хоть голос, Федька!
– А это кто? – раздался за дверью детский шепот.
– Конь в пальто! – рыкнул Макаров. – Открывай!
– Кто? – испуганно переспросил голос.
– Дед Пихто и Агния Барто! Открывай, ё-моё!
Дверь отворилась, и перед блюстителями предстал жирный, румяный детина с полуоткрытым ртом и реденькой бороденкой. В его глазах был испуг нашкодившего ребенка.
– Что, Федя, не узнал? – ласково улыбнулся участковый. – Ну, давай, приглашай в гости!
Детина перевел взгляд на Макарова и расплылся в приветливой улыбке. Он сделал пригласительный кивок и, не спеша, повел гостей в горницу. В доме было чисто. Аккуратно заправленный диван со взбитыми подушками, выскобленный до блеска деревянный стол, на полу – полотняные дорожки. Но духота стояла ужасная, и запах был специфический. Оперативники хотели пройти на кухню, но хозяин преградил дорогу и насупился.
В кухне топилась печь. Около нее лежали дрова, а рядом стояло цинковое ведро, покрытое клеенкой. На плите кипела огромная кастрюля с похлебкой и издавала сильный мясной аромат. К печи был прислонен мокрый топор. На разделочном столе сушилась разобранная мясорубка. Макаров подмигнул оперативникам и продвинулся вперед.
– Как поживаешь, Федя? Не голодаешь, – произнес он с добродушной улыбкой.
Хозяин отрицательно покачал головой. Его взгляд по-прежнему оставался недоверчивым.
– Пенсии хватает?
– Что вы, дядя Алексей! – всплеснул руками дурачок. – Только на хлеб и чай.
– Ну, наверное, мясо тебе приносит баба Оксана, – хитро подмигнул Макаров.
– Давно уже не приносит, – скривил губы хозяин и шмыгнул носом.
– Просто беда! – сочувственно покачал головой участковый. – Что же теперь, голодать будешь?
Лицо дурачка просияло и сделалось лукавым. Он хитро покосился на занавешенные окна и прошептал:
– Не буду, дядя Алексей. У меня мяса заготовлено на всю зиму.
– Да ну! – воскликнул лейтенант, включившись в игру. – Врешь, наверное!
Лицо хозяина сделалось обиженным. Он подошел к холодильнику и распахнул дверь. Сочный запах мясо, пахнувший из него, заставил всех содрогнуться. Стоящие в нем две огромные кастрюли были доверху забиты фаршем. На нижней полке, в тазу лежали кишки, сердце и печень. А то, что лежало ниже заставило наряд откачнуться назад: едва ободранные кисти рук.
– Людоед! – прошептал лейтенант и услышал, как сзади один из бойцов рухнул на пол.
Как после установит следствие, жертвами стали двое рабочих автомата витаминной муки. Они часто захаживали к дураку раздавить бутылочку. В тот роковой вечер друзья не угостили хозяина дома, а когда он потребовал, то насовали ему тумаков, чем вызвали в нем кровную обиду. Как только друзья заснули, дурак взял топор и отсек им головы. После чего пустил их тела в производство, чтобы добро не пропадало зря. Занимался ли Федор Баранов людоедством до этого случая, на этот вопрос следствие ответить не смогло. Впрочем, мясо своих товарищей он вкусить не успел. Больной был задержан, а затем отправлен в Казанскую психиатрическую больницу.
Однако мы отвлеклись. Итак, в то самое время, когда Луиза приходила в себя после перенесенного потрясения, кузоватовские мужики тряслись в фирменном поезде, следовавшим в Москву.
12
Итак, в то самое время, когда Луиза приходила в себя после перенесенного потрясения, кузоватовские мужики тряслись в фирменном поезде, следовавшим в Москву. Парторг из Коромысловки, который отправился сопроводить односельчан до столицы, не переставал удивляться московскому журналисту. «Вот у кого действительно слова не расходятся с делом, – восхищался он. – Обещал организовать билеты, и организовал. Гигант! А главное, не только заказал билеты абы какие, а все в одном вагоне. Более того, больше никого из посторонних в этом вагоне нет. Что значит, когда имеешь друга в ранге замминистра».
Честно говоря, пятидесятилетнего парторга Семена Куроедова мучила черная зависть. Он тоже хотел в Америку, но туда приглашали только сельскохозяйственных специалистов. Парторгов не приглашали. Впервые в жизни Семен Петрович почувствовал свою профессиональную ущемленность. Более того, начинающиеся в стране реформы сулили окончательное упразднение парторгов. «А ведь и упразднят, Ироды проклятые, – сокрушался про себя Петрович. – И куда же я тогда пойду? Ведь я же ничего больше делать не умею».
Собственно, в его сопровождении земляков до Москвы необходимости не было. Но он сам настоял на своей поездке (мол, нужно поддерживать дисциплину!), втайне надеясь, что случится чудо, и его тоже отправят в Америку в качестве руководителя. Ведь нужно и там кому-то руководить.
Однако, как только мужики загрузились в вагон, журналист, игнорируя парторга, объявил, чтобы они сами выбрали себе старшего.
– Федьку! Федьку Сапожникова! – загалдели мужики. – Он серьезный! Никогда не видели, чтобы он напивался до поросячьего визга.
– А забыли, как он по пьяни утопил в пруду трактор? – сдвинул брови парторг. – А как башкой разбил конвейер на витаминном агрегате? Вы хотите, чтобы он и в Америке повторил свои подвиги? Нет, товарищи! Старший должен быть морально устойчивым.
Мужики смущенно замолчали. Однако ненадолго.
– Тогда Лешку Селедкина, – снова загалдели они. – Он самый башковитый. В прошлом году башкой выбил дверь в сельмаге.
– Вы что же, хотите, чтобы он и в штате Невада таким образом проявлял свою башковитость, – строго перебил парторг. – Я сказал, морально устойчивый.
Мужики замолчали и все, как один, начали чесать затылки. В эту минуту всеобщего почесывания с парторга сошло семь потов. Он ожидал, что после этого односельчане, наконец, вспомнят о нем и скажут, что самый морально устойчивый – это он, Петрович. И они начнут умолять журналиста, чтобы он попросил замминистра послать его с ними в качестве руководителя. Однако у односельчан, по всей видимости, в мозгах замкнуло.
– Ну, если морально устойчивого выбирать, то только Федьку Сапожникова. Он всегда на ногах стоит, даже после ящика водки.
«Вот сукины дети! – воскликнул про себя парторг. – Сколько для них не делай, никогда не будут благодарны». Если бы односельчане подслушали мысли идеолога, то искренне бы изумились: «А за что, собственно, быть ему благодарным?»
Старшего бы еще долго не смогли выбрать, если бы не вмешался журналист. Он пояснил, что старший выбирается на время пути до Москвы. Потом в Москве им дадут руководителя из министерства. Парторг окончательно приуныл, и мужики, воспользовавшись его молчанием, утвердили руководителем Сапожникова.
Двухметровый детина с полупудовыми кулачищами сразу важно надул щеки, и первое, что он сделал, поднес кулак к носу Лехи Селедкина.
– Увижу, что башкой выбиваешь дверь, убью!
– Да на кой хрен мне нужно, башкой? Я чё, не понимаю, куда едем. Я одной левой выбью любую дверь! – ответил коренастый и весьма сбитый детина с мускулатурой, как у жеребца.
– Это другое дело, – одобрил Сапожников, и в глазах у него потеплело.
Тут опять подал голос журналист.
– Ребята, не буянить! Не дебоширить. На всякий случай, много не пить. Понимаю, что без этого не обойдется, но знайте меру!
Слова корреспондента пришлись всем по душе. Несмотря на сухой закон, у каждого в недрах чемодана было припрятано минимум по литру самогона. Пить во время пути все равно тайком намеривались, а тут такой подарок – разрешили официально.
– Все поняли? – опять сжал кулак Сапожников. – Пить аккуратно! И только со мной!
Парторг ни за что бы не разрешил им пить в дороге. Кому как не ему было знать, что русские мужики тихо и аккуратно пить не умеют. Однако он не стал оспаривать поблажку журналиста, хотя и язык у него на этот счет ой как зачесался. Тут он сообразил, что дорогой кто-нибудь так напьется, что вывалится из вагона. И тогда, вместо недосчитавшегося, в Америку пошлют его. Если даже и никто не вывалится, то без происшествия или мордобоя не обойдется. И тогда всегда найдется тот, кого можно будет лишить поездки за моральную неустойчивость.
После этого все стали деловито распаковывать чемоданы. Столики начали заполняться пирогами, курами, помидорами, вареной картошкой, свежей зеленью. Также на столах появились трехлитровые банки с компотом и различного рода соленьями. Следом, по логике вещей, на столах должны были появиться и бутыли с запретной жидкостью. Вот тут бы парторг снова показал, чья в данном вагоне власть. «Уберите немедленно, – гневно закричал бы он. – Хотите, чтобы засек ревизор?» Но эти бутыли на столах так и не появились, даже тогда, когда в какую-то минуту в нос ударил крепкий запах сивухи. Парторг всего ожидал от своих коромысловских, но только не такой дисциплинированной конспирации. К тому же, Федька Сапожников, почувствовавший ответственность, с важным видом патрулировал по вагону и зорко следил за тем, чтобы на столах не появилось это противозаконное безобразие.
«Ничего, все равно напьются, – улыбнулся про себя парторг. – Это же русские средневолжские мужики. А раз напьются, значит раздерутся. А где драка, там и милиция».
Куроедов обильно завалил едой свой столик и достал бутылку лимонада «Буратино». Разумеется, в бутылке был не лимонад, а настоянный на травах и лимонных корках первач, который ни цветом, ни запахом не напоминал таковой.
– Ну что, вздрогнем, – подмигнул он журналисту, разлив по стаканам хитрый напиток. – За то, чтобы все было хорошо.
– За это грех не вздрогнуть, – охотно отозвался корреспондент, и парторг в очередной раз восхитился его коммуникабельностью. «Вот это я понимаю человек: и деловой, и компанейский!»
Чокнулись, выпили, закусили. Налили еще. Журналист без всякого стеснения приналег на домашнюю колбасу, чем очень порадовал сотрапезника. Парторг опасался людей, которые плохо едят. Чем больше люди морщатся при виде еды, тем большая в них червоточина. Те, которые метут все подряд, более простые, более доступные, а главное – обладают неуемной энергией.
Петрович, который всю жизнь прожил в деревне, очень бы удивился, если бы узнал, что не один он подметил такую странность у людей. Про такую странность знал и отец народов Иосиф Виссарионович. Вот почему он так любил закатывать пиры, и обычно после них производил назначения на высокие должности. Еще парторг заметил, что журналист игнорирует мягкие булочки, пирожки, сливочное масло, варенье, а это свидетельствовало о том, что мягкотелость ему несвойственна, а значит, в нем есть сила и устремления. Несмотря на то, что Семен Петрович не изучал психологии, он почему-то знал, что любителям сдобных булочек не подвластно великое. И наоборот, устремленные к великому, пренебрегают мелкими удовольствиями.
– Я вижу, вам нравится наш круглый, серый хлеб, – произнес с улыбкой парторг. – Я тоже его обожаю, хоть он и из кормового зерна.
– Из кормового? – удивился журналист.
– Ну да, из кормового. Зерно нашей полосы не котируется на мировом рынке. Земли у нас не те. Нормальные земли начинаются с Саратовской области. Там созревает зерно, которое уже можно экспортировать. Наше ульяновское зерно идет только на корм скоту.
– Да? – еще больше удивился журналист. – А мне нравится только такой хлеб. Московский мне как-то не по нутру.
– Правда? – обрадовался парторг. – Вы знаете, это болезнь всего среднего Поволжья. – Привыкли с детства к своему хлебу из кормового зерна, и другого видеть не хотят. Москвичам этого не понять. Ой, простите! Вы исключение!
Журналист понятливо улыбнулся и снова налег на колбасу.
– Да, кстати, – сообразил парторг, – а что, в Москве, тоже продают наш хлеб?
– Не! Никогда не видел! – ответил с полным ртом журналист. – Вот я и мучаюсь.
Парторг проникся к корреспонденту «Известий» еще большим уважением и снова налил. Когда они выпили, Семен Петрович прислушался. В вагоне по-прежнему было тихо. Никто не дебоширил и даже не повышал голоса. Он встал, прошел по вагону. Односельчане уже сидели с румяными лицами. Отовсюду остро пахло самогоном, но в вагоне по-прежнему было культурно. «Ничего-ничего, – успокаивал себя парторг. – Еще по стакану примут и начнется».
Когда он вернулся, журналист уже лежал на второй полке, отвернувшись к стене.
– Мне надо выспаться, – произнес он, не повернув головы. – Завтра у меня трудный день.
– Да-да, конечно, спите на здоровье, – произнес Куроедов ласково, а сам подумал: «Не завалиться ли и мне? Мужики увидят, что начальство спит, и начнут куролесить…»
13
Наутро над Берестовым потешалась вся деревня. Но сначала девчонки из правого крыла. Они вежливо интересовались, как его угораздило в пустых сенях нащупать овцу. По мере объяснений их губы расползались в улыбке, сначала – в деликатной, потом все в более издевательской. В процессе рассказа они тонко подтрунивали, потом подтрунивали более грубо, и кончалось всеобщим хохотом. После этого, давясь и держась за животики, коллеги начинали выкрикивать самые неожиданные вопросики, типа, а не нащупал ли он там козлиных рогов, или коровье вымя, или вымя, но уже не коровье, или овцу по имени Таня, с бычьими яйцами!
Последнее уже было настолько пошлым, что Берестов на всех обиделся и решил больше ни с кем не вступать в разговоры, кроме, как с Креончиком, наивно полагая, что лучший друг этот случай подведет под «материалистическую подоплеку». Однако и Креончик поддался всеобщему настроению. Он скептически ухмылялся и отмахивался от Лени, как от мухи.
– Ну и черт с тобой! – окончательно разозлился Берестов. – В следующий раз, когда ты будешь тонуть, я тебе и пальца не подам.
Сказанное тянуло на бессмыслицу. В деревне не было ни только речки, но и даже приличного пруда. Впрочем, пруд был. Однако в нем купались исключительно коровы, и глубина его доходила только до коровьего вымени. Где Креончику предстояло тонуть, непонятно. Разве что, в луже за магазином, где стоит бычок. Но в луже за магазином не утонет даже мышь. Впрочем, Берестов сказал это в метафорическом смысле.
После завтрака всю группу вывели на площадь и сказали, что сейчас будут распределять работу. Через пару минут из Правления вышел парторг и, тряся всеми тремя подбородками, принялся пожирать глазами девчонок. Все поняли, от того, что взбредет ему в голову, и зависела сегодняшняя судьба девчонок на поприще трудовых деяний. На парней парторг даже не взглянул. Им уже заранее было предрешено сгнить в нечищеных коровниках вместе с бедными животными.
Однако неожиданно Луиза проявила характер и выразила протест против раскола группы. Петр Иванович лихо послал ее к чертовой бабушке и заявил, что сегодня все девочки, кроме Светланы Дырочкиной, отправятся на прополку моркови. Затем он повернулся к Светлане и спросил, умеет ли она печатать на печатной машинке. Девушка отрицательно покачала головой.
– Ничего, научим! – бодро ответил парторг и велел следовать за ним в Правление.
Но путь им преградила худая, словно швабра, Розка Матюнина. Она заявила, что умеет печать на машинке. Затем, после неопределенной паузы добавила, что умеет не только печатать, но и при необходимости впечатать кому угодно и когда угодно. Последнее добавлять было излишне. Парторг брезгливо оттопырил нижнюю губу и надменно ответил:
– А печатать, милая девушку, ничего не нужно. К тому же в Правлении сроду не было печатной машинки.
Он внушительно кашлянул и, взяв Светлану под локоток, повел ее в сторону полуразрушенной гостиницы.
Тут под всеобщее недоумение запоздалый протест против коровника заявил Малахаев, крикнув в жирный затылок парторга, что он поэт, и что работа по очистке оного унижает его поэтическое достоинство. Но сельский идеолог не повел ухом, поскольку, как всем показалось, был ошарашен гением чистой красоты Светланы. Малахаев, впервые в жизни не услышав оскорбления в адрес поэзии и поэтического достоинства, в ту же минуту пнул лежащую на земле лопату и потопал в сторону леса, забормотав футуристические рифмы. Глядя на него, Толик пожал плечами, и сказал, что тоже не намерен работать в коровнике, поскольку его гитара может провонять навозом.
– Так оставь ее в столовой! Зачем ты вообще ее взял? – воскликнула Луиза.
– Как зачем? – оскорбился Толик. – А вдруг на меня нападет вдохновение.
– Вдохновение среди навоза нападает только на идиотов, – парировала Луиза.
Толик хотел возразить, но тут Креончик с Шуриком-Австралией заявили, что если никто не собирается работать, то они тоже не козлы отпущения.
После этого все вопросительно уставились на Берестова. Он продолжал молчать, и его молчание истолковали, как вызов всеобщей безответственности. Общественности это не понравилось, и она опять припомнила ему вчерашнюю овцу. При этом мнения разделились: одни настаивали на собаке, другие на овце. После получасового хохота общественность пришла к выводу, что беднягу напугала овца, поскольку собака могла тяпнуть за палец. Неожиданный вывод навел всех на блестящую мысль: скинуться по троячку, купить в соседнем селе барана и заварганить вечерком шашлычок.
14
А тем временем, когда в Кузоватово решался вопрос с бараном, Ульяновский фирменный поезд подъезжал к Москве. К досаде парторга доехали без происшествий: никто за время пути не напился, не разодрался, и даже не учинил элементарного дебоша, без которого не обходится ни одна пьянка. «А ведь им лакать не запрещали. Что с ними сделалось? – удивлялся идеолог. – Расскажи кому, не поверят».
Петрович впервые в жизни усомнился в необходимости запретов. Запрети им пить, они бы точно напоролись. Русское мужичье все делает вопреки. А тут разрешили, и на тебе – пропал всякий интерес. Это что же получается: нужно все разрешить?
Даже выглядели мужики весьма прилично: ни одной распухшей физиономии, а некоторые даже – в галстуках и благоухали одеколоном. Держались тоже весьма дисциплинировано. Вышли из вагонов и чуть ли ни военным строем проследовали на вокзал. Там журналист потребовал сдать паспорта. Через минуту шестьдесят паспортов легло на дно его сумки. Газетчик был озабочен. Он сказал, что сейчас поедет в Министерство сельского хозяйства, где решится их судьба. После некоторой паузы он предупредил, что нужно быть готовым к тому, что замминистра может несколько человек отсеять по каким-то своим соображениям.
– Это если рожа что ли не понравится? – заволновались колхозники.
– Не исключено, – вздохнул журналист. – Но будем надеяться на лучшее. Словом, сидите и ждите! Думаю, к обеду дело решится. Николаич не любит затягивать дела.
Журналист взял с собой двоих: Федьку Сапожникова и парторга. Точнее, Семен Петрович сам напросился. Это был его последний шанс отправиться в Америку. К тому же была надежда, что минимум пять морд его односельчан не понравятся заместителю министра, настолько они были кривы и неприветливы. А кем заменить, если уже одобрено шестьдесят человек? Только им, парторгом.
По дороге в метро попали в жуткую давку. Петрович придвинулся поближе к журналисту, а Федора оттащило в сторону. Такой шанс упускать было нельзя.
– Станислав Владимирович, – вкрадчивым голосом произнес Куроедов, – между нами говоря, Сапожников, как руководитель, может подвести. Нет, парень, он, конечно, не плохой, но если ему под хвост попадет вожжа, тут уже держись.
– Что вы имеете в виду? – нахмурился журналист.
– За нашими ребятками нужен глаз, да глаз, а Сапожников сам один из них. Нужен посерьезнее человек в руководители.
– Кого вы предлагаете? – деловито осведомился корреспондент.
– Себя! – выпалил Семен Петрович.
Журналист метнул оценивающий взгляд в собеседника и задумался. За то время, пока он думал, перед глазами парторга промелькнула вся его невзрачная жизнь. «Зря, я сказал прямо, – ругал сам себя парторг. – Нужно было как-то потоньше». Однако на тонкости не располагали обстоятельства. Да и времени не было. Журналист остановил серьезный взгляд на Петровиче.
– Паспорт у вас с собой?
– С собой! – с готовностью стукнул себе по карману парторг.
– Хорошо. Я поговорю с Николаичем.
Как сразу вольно задышалось. Как сразу захотелось жить. И преимущественно, с американками. Куроедов хотел добавить, что если число уже согласовано, то можно отчислить одного из группы, самого морально неустойчивого. И он даже знает, кого. Однако не успел. Народ неожиданно схлынул из вагона, освободив сидячие места, и к ним подсел Сапожников.
Через десять минут троица ступила на ступени крыльца Сельскохозяйственного министерства. Прибывшие вошли в просторный вестибюль, и журналист, попросив товарищей подождать, взял у парторга паспорт и нырнул мимо охранника внутрь, показав ему какое-то удостоверение.
Журналиста не было ровно пятьдесят две минуты. За это Петрович может ручаться, поскольку он засек время. За эти пятьдесят две минуту он понял, что больше не сможет жить без Америки. Он нервничал, переживал, то и дело вскакивал с банкетки и, описав по вестибюлю круг, возвращался на место. Сапожников был более спокоен. За время ожидания он только четыре раза вышел на крыльцо покурить, а все остальные минуты с важным видом сидел на кожаной банкетке и, не мигая, смотрел в пол. На пятьдесят третьей минуте в вестибюль вышел журналист. Лицо его светилось.
– Ура! – воскликнул он с противоположного конца зала. – Все утверждены! Поздравляю!
– И я? – не поверил ушам парторг.
– И вы в качестве руководителя.
После крепких рукопожатий лицо журналиста снова сделалось озабоченным.
– В общем так: сейчас производится регистрация ваших паспортов. По времени это процедура продлится около часа. Езжайте на вокзал за остальными. К двенадцати подадут автобус. К этому времени уже все должны быть здесь с вещами.
– Будут, как штык! – радостно воскликнул парторг, все еще не веря своему счастью. – Мы сейчас с Федькой мигом!
Они еще по разу пожали журналисту руку и поспешно подались в сторону метро, так и не уточнив, куда в двенадцать повезет их автобус: в гостинцу, или сразу в международный аэропорт? «Наверное, сразу в аэропорт, – мелькнула задняя мысль, – раз с вещами…»
Приблизительно через час крыльцо министерства оккупировали шестьдесят деревенских мужиков с квадратными чемоданами. Из них, кто-то сидел на ступенях, кто-то на собственном чемодане, а кто-то с важным видом стоял наподобие статуи, скрестив на груди руки. И все поголовно курили, причем так смачно, что в здании на втором и третьем этажах закрыли окна, которые до той минуты были открытыми.