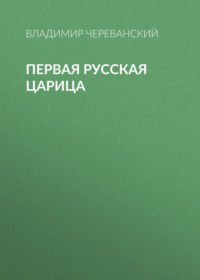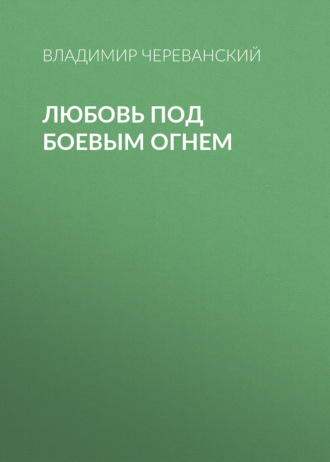 полная версия
полная версияЛюбовь под боевым огнем
После этой неудачи исторический рок надолго задремал и, пробудившись на короткое время при Ермолове, снова погрузился в тяжелые сновидения. Несколько лихорадочно снаряженных в последние годы экспедиций ни к чему не привели. Наконец рок обиделся и решил стать за Каспием твердой ногой, бесповоротно.
Каспий ожил.
Было раннее утро, когда в одной из бухточек неподалеку от персидского берега грузилась туркменская лодка, немало послужившая на своем веку разбойничьему делу. На ней грабили и персидские берега, и астраханских ловцов, но то время прошло. Теперь она служила для доставки из Персии русским гарнизонам в Ашур-Аде, Чекишляре и Красноводске разных дешевых товаров – горьковатых лимонов, шепталы, рыбы…
На этот раз она приняла – что было на этом берегу совершенно необыкновенным явлением – двух пассажиров, европейца и его слугу. Европеец выдавал свое происхождение рыжей шевелюрой, фляжкой и биноклем, а слуга был, по всей видимости, тем международным человеком, которыми так богаты наши азиатские окраины. Разумеется, его звали Якубкой.
Якубка не знал своих родителей да и не интересовался ими, справедливо полагая, что не всякому человеку дано знать своих предков. По временам он верил в христианского Бога, по временам в Аллаха, но большей частью созерцал природу, не задаваясь мыслями о ее Творце. Его воспоминания о прожитом начинались с того счастливого дня, когда ему подарили пол-абаза за подметание сора на кухне одного из тифлисских генералов.
Выучившись кое-как русской грамоте, он перешел в выездные лакеи сначала к персидскому, а потом к английскому консулу. Украсившись патронташем и серебряным поясом с длинным кинжалом, Якубка переименовался в Якуба и гордо воссел на козлы консульской кареты. Впрочем, он не раз побывал в Тегеране, отвозя туда шифрованные записочки от консула и не гнушаясь возвращаться обратно с вьюками контрабандного табака.
Но нельзя же сидеть всю жизнь на козлах кареты, особенно при навыке и способности вести политические дела! Придя к такому заключению, Якуб принял на себя временно, пока улыбнется счастье, обязанности переводчика при англичанине, отправлявшемся из Астрабада в Туркменскую степь.
Звание драгомана не избавляло его от обязанности и низшего положения, поэтому он достал из багажа гуттаперчевый матрас и, надув его воздухом, устроил своему патрону в лодке уютный уголок между кипами сухой травы.
Лодкой управляли два туркмена довольно свирепого вида, несомненно, выкрадывавшие в молодости казачек с Эмбы и Урала, а теперь состоявшие на счету мирных обывателей закаспийского побережья.
Паруса были подняты. Легкий южный ветерок гнал лодку к Ашур-Аде. Хозяева ее, усевшись степенно за кальяном, искусно приготовленным из горластой тыквы, почтили Якуба приглашением занять возле них место на обрывке заслуженного войлока.
Впереди предстоял целый день плавного хода с волны на волну, причем ни паруса, ни руль не требовали никакой заботы. Жизнь требовала развлечения, а что же может сравниться в таком случае с хорошей сказкой?
– По всему видно, что ты ученый человек, – обратился к Якубу наиболее свирепый туркмен, – поэтому ты должен знать все хорошие сказки.
– Инглези же твой напился арака и спит как убитый, – пояснил туркмен менее свирепого вида. – Куда ты везешь его, к русским?
– Мы высадимся на Серебряном бугре.
– Следовательно, инглези прячется от русских?
– Не будем говорить о вещах, к которым мы не привязаны. Если же вы хотите слышать хорошую сказку, то я расскажу вам такую, что рыба заслушается в море.
Предвкушая удовольствие выслушать занимательную сказку, туркмены поправили снасти и подкрепили свои силы кусочками вяленой конины и холодным чаем.
– Шайтана знают все простые люди, – начал повествовать Якуб, – но ученые знают кроме шайтана и многое другое! Они знают, что в старое время жили на свете три дива: Акван, Аржанг и Сафид…
– У нас дивов никогда не было, – перебил рассказчика один из туркменов. – Дивы водятся только у поганых шиитов, у персиян.
– У кого нет охоты слушать, у того всегда найдется клочок ваты, чтоб заткнуть себе уши, – заметил наставительно Якуб. – Хотя персияне и шииты, но их сказки слушают цари всего мира.
Сынам песчаной пустыни сказка представлялась умственным лакомством, и что за беда, если она напоминала поганых шиитов! За хорошую сказку богатые люди отпускают раба на свободу, поэтому оба туркмена дали слово не перебивать рассказчика.
– Всевышний создал огонь ранее человека, – продолжал Якуб, – но, создав огонь, Аллах не хотел дать ему место на земле. Он знал, почему так нужно; неразумный же человек то и дело просил дать ему огня.
– Но без огня нельзя испечь и лепешки, как же быть?
– А между тем послушайте, что из этого вышло. Как только огонь вспыхнул, тотчас же образовались из дыма воздушные ангелы, которые расправили крылья и улетели на небо. Из пламени же выскочили дивы – существа страшные и злые. Старые люди видели их своими глазами: во рту у них клыки, а вместо ногтей железные крючья. Много они натворили бед на земле!
– А чем они питались?
– Желудок их не переваривал старого мяса, поэтому они пожирали одних молодых ягнят. Но молодых ягнят они истребили столько, что пастухи пришли к царю и сказали: «Дай нам сильного батыря, чтобы он побил дивов, а то у нас не останется ни одного ягненка». Тогда царь приказал Рустаму явиться к нему на службу и побить всех дивов. Рустам встретил прежде всех Аквана и бросил ему на шею аркан. Акван увернулся. Рустам бросил второй раз и тоже не зацепил, а потом от усталости уснул. Он уснул на высокой горе, которую Акван взял в руки и бросил со всего размаха в море. Но Аллах любил Рустама и, когда он летел, подставил ему остров с мягкой травой…
– Должно быть, Ашур-Аде? – пытливо спросил туркмен менее свирепого вида.
– Это все равно, – продолжал Якуб, – может, Ашур, а может, и другой остров. Во всяком случае, див очень рассердился и изо всех сил напал на Рустама, но у этого уже была готова мертвая петля в руках – и конец пришел Аквану. Труп его и теперь лежит на морском дне и много уже веков им питаются водяные скорпионы. Пока шла борьба с Акваном, его братья Аржанг и Сафид взяли в плен все войско царя. Царь опять приказал Рустаму явиться к нему на службу и убить Аржанга и Сафида. При встрече с Рустамом дивы побоялись подпустить его к себе, и Аржанг забросал его мельничными раскаленными жерновами, а Сафид поднял его в вихре на воздух. Но ничто не помогло. Отрубив им головы, Рустам отдал их шакалам. С той поры пастухам полегчало. Ягнята перестали исчезать, а бараны расплодились целыми тысячами.
– Хотя Рустам был и поганым шиитом, а все-таки ему спасибо, – заметил один из благодарных слушателей. – Без его помощи бараны извелись бы во всей Туркмении.
В течение дня Якуб успел рассказать много из старого времени и из преданий, хранимых учеными людьми. Он рассказал о птице Симурге, о водяной лошади и о бирюзе пророка Сулеймана. Ему не удалось только довести до конца историю богатыря Хотана, отправившегося на поиски волшебного кольца, – не удалось потому, что на горизонте показался дымок военного крейсера.
– Будет обыскивать, этот всегда обыскивает, – объявил старший туркмен. – Под предлогом, что ему нужна рыба, он смотрит, не собираемся ли мы на аломан.
Якуб засуетился. Бросив богатыря Хотана на произвол судьбы, он принялся будить своего патрона и растолковывать ему, что навстречу идет пароход, который может сделать им большую неприятность. Притом же и Серебряный бугор был неподалеку.
Смеркалось, когда из лодки, приткнувшейся к пологому прибрежью, выскочили два пассажира с поспешностью, обличавшей их старание скрыться от настигавшей опасности. Но пароход прошел мимо Серебряного бугра, нисколько не поинтересовавшись странными, загадочными личностями, выбиравшимися из воды на бесприютный песчаный берег.
XIСеребряный бугор, с вершины которого виднеется далеко южный берег Каспия, служил тогда сборным местом для туркмен, когда они готовились напасть на соседние персидские селения, и для персидского сброда, когда он собирался грабить туркменские стада. Такое международное значение этого пункта всегда привлекало к нему людей достаточно смелых для нападения и достаточно сильных для отпора. Появление лодки было давно уже замечено с вершины бугра дозорным, в котором, однако, никто не признал бы искателя степных приключений. Правда, этот молодой и красивый туркмен был одет, как и все его сородичи, в длинный халат, но по манере запахиванья халата, по кушаку и по фасону высокой бараньей шапки легко было признать в нем человека белой кости. То был Ах-Верды, сын известного в степи Эвез-Мурада-Тыкма. За песчаным барханом на коврике отдыхал или, скорее, думал тяжелую думу его отец, а подальше видна была группа наездников, державших в поводу коней.
Много родила туркменская степь истинных батырей, но Эвез-Мурад-Тыкма превышал каждого из них целой головой. От предков, оканчивавших почетно жизнь свою в набегах, он получил крепкое физическое строение и своего рода наследственное право на звание сардара во всех опасных аломанах.
На двенадцатом году жизни колено Сычмаз признало его уже «владеющим саблей». На пятнадцатом году он томился военнопленным у персидского ильхани, и настолько важным, что родовое колено продало каждого пятого верблюда, чтобы внести за него выкуп в тысячу туманов; скоро он возвратил свой долг с процентами. Десятки лет он провел таким образом в стычках с шиитами и в поисках славы и добычи. Перед ним пала не одна сотня голов…
Теперь его характерный высокий лоб волновался целой грядкой морщин, очевидно, в умственной погоне за крупным предприятием. Но вот Ах-Верды почтительно нарушил уединение отца, сообщив ему, что инглези выходит на берег.
Эвез-Мурад-Тыкма степенно, не торопясь, пошел на встречу инглези и поздоровался с ним по всем правилам восточного этикета.
Якуб служил переводчиком.
– Королева инглези поручила своему старшему полковнику О’Доновану передать ее поклон знаменитому Эвез-Мураду-Тыкма.
Эвез-Мурад приложил по-офицерски руку к бараньей шапке и сделал вид, что, преисполнившись удовольствия, протирает глаза и гладит бороду.
– Эвез-Мурад-Тыкма явился подержать стремя полковнику королевы инглези, – переводил Якуб ответную речь.
– Ради священной бороды Магомета, ради посланников Божиих, имеющих множество крыльев, прошу тебя, говори одну правду и только одну правду, – взмолился Эвез-Мурад, хорошо понимавший значение и легкомыслие толмачей. – Дела нашего народа очень тяжелы, а кому Аллах пошлет лихорадку, тому не вешай на шею мельничный жернов.
Якуб ответил, что как мусульманин он понимает это дело хорошо и не станет лгать перед таким высоким избранником народа.
– Что сказал Эвез-Мурад? – спросил О’Донован.
– Он благодарит за то, что я доставил вас в целости, и просит вас доложить об этом королеве инглези.
– Якуб, помни, ты должен переводить, как переводил бы родному отцу, – заметил О’Донован. – Ведь вы, восточные толмачи, – лгуны по преимуществу.
Якуб ответил не без гордости, что и между восточными толмачами есть люди светлее горного хрусталя.
– Что говорит благородный полковник? – спросил Эвез-Мурад.
– Он слышал еще в колыбели завет своих родителей: быть другом текинского народа.
Пока происходили эти дипломатические объяснения, группа туркмен изготовилась в дорогу и, оседлав коней, добыла оружие, которое было спрятано на всякий случай под потниками в песке. Выбрав из него богато обделанную золотом и бирюзой шашку, Ах-Верды поднес ее отцу.
– Народ теке просит храброго полковника принять этот подарок вместо печати к договору о большой дружбе, – переводил Якуб О’Доновану. – Лезвие этого клынча висело у бедра великого Тимура. Враги текинского народа горько заплачут перед этим острием, – продолжал переводить Якуб, обращаясь к Эвез-Мураду. – Сардар всего теке просит полковника пожаловать к нему в аул. Только там он может принять его с должной честью… А полковник говорит, что отныне королева инглези и сардар теке все одно что брат и сестра.
Подвели коней. О’Доновану предложили аргамака под богато расшитым чепраком. Но никакая роскошь чепрака, седла и уздечки не могли бы умалить природной роскоши самого коня. Достойно продолжая род своих арабских предков, текинский скакун напоминает во время бега стрелу, пущенную в пространство сильною тетивою. Тонкий корпус при небольшой голове и длинной шее рассекает воздух без всякого напряжения; длинные, сухие ноги его едва касаются земли. Разумеется, он воспитывается не в табуне, а в кибитке хозяина и притом с заботой, на какую не смеет рассчитывать и любимое дитя последнего.
Степь, озаренная мириадами звезд, огласилась чуть слышным топотом копыт. Оружие бряцало сдержанно, всадники же хранили строгое молчание, хорошо памятуя, что русские этапы, уходившие от моря в даль страны по течению Атрека, зорко сторожили дорогу. Путникам встречались аулы иомудов, по-видимому спокойно и равнодушно относившихся к вопросам политики.
В то время не существовало определенной границы между Персией и оазисом Теке. Не существовало, понятно, и политических договоров, поэтому всякий пограничный спор переходил на решение острого клынча и смелого набега. Впрочем, горные вершины Копетдага служили своего рода указателями, где и кому приобретать славу и добычу. Нападения одиночек – калтоманы – не пользующиеся народным уважением и нападения благоустроенной силой – аломаны – шли по путям вековых преданий. Персияне добывали на северной стороне Копетдага лошадей, баранов, рабочую силу и изредка славу, а теке вознаграждали свои потери, увозя с южной стороны хлеб, шелковые изделия, серебряные краны и невольниц. Вопреки религиозному верованию своему, они не брезгали и золотыми туманами, несмотря на то что шииты изображают на них живых существ: шаха на одной стороне и льва на другой. О славе они не заботились.
К счастью для Персии, туркменские племена всегда находились во взаимной розни: иомуды не любили сарыков, сарыки – салоров, а салоры – чодоров. Отамышцы воевали нередко с тохтамышцами, а атабаи с джафарбаями. Из всех же туркменских таифе и таире Ахал-Теке выделялось и числом кибиток, и грозой своих набегов.
Эвез-Мурад-Тыкма и его спутники, пересекая землю иомудов, предпочитали следовать по ребрам горного кряжа с расчетом переброситься, смотря по обстоятельствам, на южную или северную его сторону. Только на третьи сутки неустанного пути они решили спуститься в долину, откуда шли уже дружественные кочевья. По мере движения вперед эскорт Эвез-Мурада-Тыкма увеличивался новыми всадниками, неожиданно появлявшимися из горных ущелий и песчаных барханов. Вскоре свита его выросла до ста человек, не стеснявшихся выставить напоказ длинные пики с крючками для захватывания неприятеля и знамя, состоявшее из высокого древка с лошадиным хвостом под молодой луною. От предгорья путь повернул в пески, изредка скрепленные кустами тамариска и саксаула.
Но вот и конец тяжелому испытанию – тяжелому, впрочем, для европейца, а не для теке, привыкшего спорить с ветром в степи. Родной аул Эвез-Мурада-Тыкма встретил его с подобострастным восторгом: малый и старый явились подержать его стремя, поднести ему чашку айрана и покрыть его коня попоной.
Аул величал своего знаменитого сородича громким титулом сардара, которым теке украшали своих предводителей только в войне или в аломанах. Но ему столько раз подносили это звание, что народ решил именовать его сардаром до конца его дней.
Теке и врагу не отказывают в гостеприимстве, а инглези, желанному гостю всей страны, было оказано широкое радушие. Ему предоставили кибитку из свежего войлока с толстым слоем ватных одеял, на которые он свалился как убитый.
Напротив, сардар, освежившись двумя чашками зеленого чая, отправился в свою канцелярию заниматься народными делами. Канцелярия его помещалась в отдельной кибитке и заключалась в двух сундучках, попавших сюда с нижегородской ярмарки. На одном из них восседал теперь мирза с тростниковым пером и баночкой разведенной туши. Сюда же ввели и толмача, который рассудил дорогой облагородить себя прибавкой маленькой частицы, обратившей его в Якуб-бая. При свете едва мерцавших жировиков произошла дружественная беседа, начатая вопросом сардара:
– Покоен ли был хребет вашего коня?
– Покойнее подушки, на которой я теперь сижу, – учтиво ответил Якуб-бай.
– Желаю, чтобы вы много лет здравствовали на его спине, – продолжал сардар. – Он будет счастлив носить вечно на себе такого знаменитого всадника.
Якуб-бай крепко прижал руки к животу и отвесил глубокий поклон.
– Пусть и ваше семейство вспомнит обо мне, когда я буду лежать в могиле на вершине горы, – сказал сардар, передавая Якуб-баю серебряное запястье.
– Сардар! – воскликнул чувствительно Якуб-бай. – Зачем вы говорите о смерти, когда мир и без того полон горестей?
– Теперь скажите мне, есть ли у вашего полковника письмо к текинскому народу от королевы инглези?
– Полковник ехал через Россию и никак не мог держать при себе бумагу с печатью королевы инглези.
– Но какая нам польза от одного полковника, который при том же пьет арак?
– Он пьет лекарство, в котором действительно… есть немножко арака. Без этого лекарства инглези не могут жить на свете. Письмо же пошло через Индию, откуда и доставят его сюда в ваши руки.
– Пришлет ли королева ружья и патроны?
– Не сомневайтесь, сардар, не сомневайтесь!
– А пушки?
– И пушки пришлет. Пушки она делает нарочно маленькие, чтобы можно было возить их между двумя верблюжьими горбами.
– Это очень хорошо.
Сардар и его гость разошлись на покой.
Власть сардара в степи была велика. Несмотря на это, в его недолгое отсутствие теке поаломанили без его согласия пограничное сельбище курдов. Аломан удался: на аркан попались несколько мужчин и молодая красивая девушка – дочь старшины из пограничного селения. Сардар, однако, остался недоволен своеволием родичей, устроивших набег в тревожное время. Утром другого дня пленных подвели к его юламейке, но он не вышел поздравить победителей. Тогда аул собрался в кружок и решил подарить ему пленницу. Ради смягчение его сердца к нему отправилась депутацию из библейских старцев.
– Я признаю, что нет выше народной власти, как власть текинского народа, – повел сардар строгую речь перед библейскими старцами, – и я повинуюсь ей в спокойное время, как повинуется ребенок указательному пальцу родителя. Но когда нашей стране и нашим стадам угрожает опасность, сардар становится выше власти народа. Избрав меня сардаром, теке вручили мне власть на жизнь и смерть, а вы, мои родственники, во что ее обратили? В птичий пух! Я рассылаю гонцов по всему правоверному миру с уверениями крепкой дружбы теке, а вы следом за моими гонцами отправляетесь аломанить?
Библейские старцы слушали сардара с покорностью малых детей.
– Успокой, отец, свой справедливый гнев, – решился выговорить старейший из них. – Всему виною наша молодежь, но дальше Нухура мы не ходили.
– Вы бы еще в Хорасан забрались или вместо девчонки взяли бы в плен принца Рукн-уд-доуле.
– Отец, прости!
– Ради ваших седых бород – прощаю, но вы должны строго внушить молодежи, что наступают опасные времена, когда жизнь каждого из них нужна родному краю. Пусть непослушные будут готовы к смерти, иначе я брошу звание сардара и уйду в хадж, в Мекку.
– Отец, мы сохраним все твои слова, как хранит мать ребенка под сердцем, а теперь… Выйди к народу с светлым лицом и взгляни на пленницу. Ах как она хороша! От имени всех теке мы подносим тебе в подарок эту прелесть Ирана.
– Мне… старику… на что она?
– Отец, награди ею, кого ты сам признаешь достойным награды. Ты справедлив.
Сановито и медленно выступил сардар из кибитки, перед которой толпился весь его фамильный аул. Молодежь, чувствуя за собою вину, стояла поодаль за матронами, выдвинувшими вперед пленницу, только что переступившую годы подростка. Природа дала ей многое: богатые черные косы, агатовые зрачки с электрическими вспышками и своеобразную негу, способную возбудить вражду и ненависть между родственными аулами и племенами.
Сардар, взглянув на пленницу, загорелся… и потом старался уже избегать встречи с ее предательскими зрачками.
– Как ее имя? – спросил он самую корявую из матрон.
– Аиша.
– Кто ее взял в плен?
– Мумын, Мумын! – залопотала одна из старух.
В среде старух возникли разом пререкания:
– Врешь, твой хомяк может ли взять в плен такую красавицу?
– Сардар, все видели, как она была привязана к седлу моего Мумына! Да и разве он хомяк? Взгляни на его рубцы.
– Ну где твоему Мумыну владеть такой рабыней, пойди утри ему нос своим подолом!
– Молчать! – раздался грозный приказ сардара. – Вы забыли, что десять женщин составляют одну курицу.
– Это, сардар, не у нас, это у бухарцев, – заметила одна из суровых старух. – Мы, сардар, не персиянки, которые красят себе зубы, чтобы прельщать мужчин, мы текинки. Ты долго жил вдали от нас и забыл, что текинская женщина плетет нагайку только для лошадиного зада, а не для своей спины.
– Не выбрать ли тебя в сардары? – спросил один из библейских старцев. – Большой страх нагнала бы ты на русских, такой красавицы они не видели.
Сардар, не давая разгореться перебранке, приказал увести Аишу в запасную кибитку и содержать ее без оков и бревна, обычно привязываемого на первое время к ноге пленника.
Аиша была дочерью курдского старшины, поэтому следовало опасаться, что порубежные сельбища предпримут немедленно ответный аломан. Текинцы не отступили бы, разумеется, перед курдами, но тут произошло особое обстоятельство, заставившее не только аул сардара, но и все пограничное население теке бросить оазис и уйти в пески.
На базарах Хорасана знали все, что делалось по обеим сторонам моря. От внимания этих политических клубов не могло укрыться и намерение России стать твердой ногой в Ахал-Теке. Народ хорасанской провинции возрадовался этим вестям, но правители Буджнурда и Кучана повесили головы. Новое соседство не обещало им никакой выгоды. Особенно заскучали ильхани Шуджа-уд-доуле и принц Рукн-уд-доуле, у которых оставалось на продажу всего по десятку невольников и то неважных, ценой в двадцать – тридцать туманов. После их распродажи чем и как пополнять губернаторскую казну?
Ильхани, предвидя это тяжелое положение, послал в Тегеран просьбу разрешить ему большой и, быть может, последний аломан. Просьба была с приложением двух девушек, мальчика, хорошей лошади и мешочка с бирюзой. Просьбу уважили.
«Разрешается вам, – было сказано в фирмане Сапех-саляр-азама, – утолить свою жажду в источниках Ахала».
Но что знали на базаре Хорасана, то знали и на северной стороне Копетдага. Доставить такой хабар, как сбор ильхани к аломану, значило получить в награду от сардара целый сарпай – всю одежду, от сапог до шапки.
Сардар, которому нужно было собрать все силы против русских, разослал тотчас же гонцов с приказанием приграничным с Персией аулам сняться и отступить в пески.
«Для ильхани достаточно будет, если он посмотрит на наш помет, – говорилось в его приказе. – Отложим поэтому дружеский разговор с ним до будущего времени».
XIIАулы потянулись на дальний север, куда не только курды, но и ильхани не осмеливались пускаться в погоню за теке. Первые два дня они шли с военными предосторожностями, даже молодежь не смела развлекаться погоней за появлявшимися в отдалении быстроногими джейранами. На ночь ставили ограду из вьюков и назначали дозорных, которые обязаны были, чтобы не поддаться сну, рассказывать друг другу страшные и занимательные сказки.
Только на третьи сутки ходу можно было считать себя в совершенной безопасности, тем более что аулы пододвинулись уже под защиту могилы знаменитого святого, аулиэ Джалута. Прозванный голиафом при жизни, он и по смерти посылал из могилы благословение всем храбрым из рода теке.
Среди песков природа выбросила высокий глинистый холм, послуживший местом упокоения аулиэ. На вершине холма гордо возвышались древки с блестящими медными шарами. Они были обвиты разнообразными приношениями правоверных: тряпочками, обрывками ленточек и прядями хлопка. В подножии их лежала груда бараньих костей и пирамида из черепов с витиеватыми рогами.
Могила аулиэ Джалута пользуется почетом всех туркменских племен от Хорасана до Ургенча. Покойный совершил в своей жизни не менее сорока аломанов и до того опасных и прибыльных, что в каждом из них охотно участвовал бы известный герой шиитов Рустам. Впрочем, святость его проявляется и после его смерти. В дни грозящей теке опасности, из его могилы вылетают тяжелые кистени и опускаются с быстротой стрел в странах кяфиров или шиитов. Истребив там врагов, они возвращаются обратно и медленно уходят в могилу до первого призыва их на помощь теке.
С той поры, как аулы вышли из оазиса, верблюды не получали ни капли воды и жалобно мычали, опровергая сказание, будто они охотно отказываются утолять свою жажду. Старые люди, однако, знали, где добыть воду. Неподалеку от могилы находились хорошие колодцы, забросанные теперь падалью и песком, чтобы русские, если они вздумают идти со стороны Хивы, не прошли по этому пути в Теке. По-видимому, такой путь невозможен, но русские упорны. Они разрешают иногда совсем неожиданные дела.