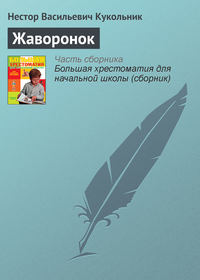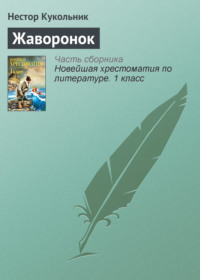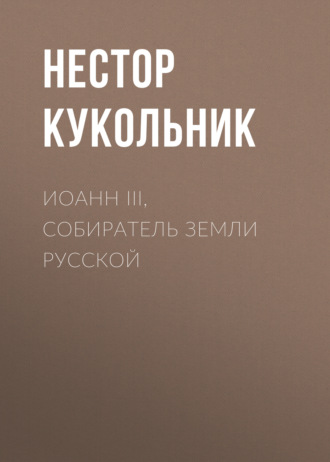 полная версия
полная версияИоанн III, собиратель земли Русской
Из любимцев Василия же Иваныча, окромя смердов, есть и князья, и дворяне. Щавий Скрябин, так тот все корчит из себя боярина. Ужо, говорит, буду тысяцким. Уж для меня, мол, князь Василий Иванович эту самую честь предоставит, хоша и давно искоренили. А князь Иван Палецкой, так тот норовит в воеводы – уряд устраивать! Грозится все подьячество известь да из боярских детей ребят посадить в приказы. Лучше, говорит, судить будут. Не скоро научатся указы как зернь метать! А Поярок Андрюха, так тот все Палецкова подзадоривать: ты, гыть, князь, может, не дорос, как подьячих искоренять? Я вот в думные произошел, всего навидался, а экова чуда, как бы вохлака сына бояровского в приказ посадить да калым в руку дать – не видывал и не слыхивал!
– Так увидишь и на носу зарубишь! – бывало, рыкнет нетерпеливый да любивший прекословья молодой князь Палецкий. Да Поярок умный малый, подсмеивается, известно.
– Быть, значит, скоро переменам каким ни на есть! – покрякивая, решали политики гостиной сотни, слушая умные речи, вновь и въявь разглагольствовавшего без опаски того ворчуна-ругателя нищего, с которым мы уже встречались два раза в нашем рассказе. Помните, как честил он знать московскую в памятный день привоза Алегама? А потом мы видели эту же непривлекательную личность в палатах князя Ивана Юрьевича – как он сетовал на дурные времена и на недостаток поддержки со стороны милостивца в деле отстояния его собственной шкуры…
Подлинного имени его – Мунт – горожане не знали, не ведали, а запросто величали Абрамком-вралем. Сам он не обижался на такую искренность выражения, зато не удерживал он нисколько и языка своего: про все и про всех резал без ножа.
Одни, бывало, слушают, другие молча отходят, качая головой.
– Как таки так можно баять на Москве стало про всякую ужасть? Он, Абрамко этот самый, иной раз и державного задевает в своем мелеве: все с рук сходит ему как по маслу.
– Видно, сила есть на поддержку, – кивая головой в сторону Дворцового приказа, однажды выговорил один набольшой боярин. Да откуль ни возьмись ярыжка, как пристал к нему: «Ты почем знаешь? Пойдем к князю». Спасибо, уж купцы заступились, избили ярыгу, так что сам уплелся не знал как; а то пропадай добрый человек.
Вот и увидели все, что, почитай, правда в болтне этой самой? Не в свою, значит, голову врет Абрамка! Все и стали отходить торговые. И послышит гость, как расписывает грядущие беды велеречивый Абрамка – а сам так и кастит всякие власти, – плюнет да молитву сотворит: сохрани, Господи, рабу твою Софью да раба твово князя Василия от всякого зла! Перекрестится, да давай Бог ноги. Дворяне были не в купцов: известно, народ отважный и буйный. Люба им всякая весть на вышних, и развесят уши, как ценит богомерзкий Абрамка княгиню великую с чадами.
– Мы-ста, – говорит раз один из дворских, – давно это самое смекали, да верно не знали только, как и что, а теперь примем меры.
Этот горячий дворянчик был князь Петр Ушатый. Во дворце рассказал он слышанное в рядах.
Князь Иван Юрьевич махнул рукой, говоря, что он знает многое и принимает меры для безопасности княжича Димитрия, но доносить государю по одной молве, пущенной, может, и с злым наветом, не смеет. Хотя никому не запрещает, но и не советует.
– У всякого свой царь в голове, – заключил он свой ответ на донесение.
Вот государь пришел к себе с жениной половины и сел читать статейный список, присланный от Михайлы Плещеева из Царьграда: как принял его турский салтан Баязет и как ему Михайло на поклоне грамоту подал.
– Недурно для первого знакомства, – молвил государь, перечитывая, что Баязет, ужас целой Европы, прижимал к сердцу его грамоту. – И велел сказать нам великой поклон, и кто мне друг – и тебе друг… Очень хорошо! Ну, друг Менгли, коли ты будешь хитрить, как теперь, мы и без тебя обойдемся, коли с Баязетом поладим…
Вдруг входит князь Ушатый и, бросаясь на колени, крикнул:
– Помилуй, государь!
– В чем миловать?
– Позволь донести усердному слуге про страшное дело… про одно, все, что узнал я!
– Говори, князь! Да встань и сядь, если хочешь, как вижу я, говорить долго! – И государь отложил в сторону начатый столбец Плещеева.
– Слышал я, государь; толкуют, как в набат бьют, на базаре, что дьяк князя Василья Ивановича, Федор Стромило, с Руновым братом, с Поярком, да с детьми боярскими советуют своему господину князю недоброе: отъехать на Вологду, пограбить казну твою, испустить на волю злодея твоего Алегама-царя и поднять весь север с Новымгородом! Да тот же вор Стромило с Володимирком Елизарьевым Гусевым да со Щавьем Скрябиным сыном Стравиным норовят извести княжича Дмитрия Ивановича! А Палецкий Иван похваляется в таком сатанином лиходеянии и в крамоле на тя, великого государя, быти воеводою. И ясь, государь, забег на конский двор, саночки княженецки ладят и в обшевни всяки товары кладут… заведомо в далекий путь.
– Собирают, заправду, в дорогу, говоришь? Да, может, так, куда ни на есть погулять Васе хочется?.. Насказал ты мне, князь, – молвил государь с глубоким вздохом, – столько нерадостных вестей, что боюсь поверить… уж очень чудно все это!
И, опустив голову, с глубокими вздохами Иоанн стал прохаживаться по своей рабочей истопке, сперва медленно, потом постепенно прибавляя шаг. Наконец он не выдержал, схватил расхожую свою, крепко потертую, заячью шапочку, спустил назатыльник и, вздевая чугу на меху, сказал доносчику:
– Ин, посиди тут. Я запру тебя здесь. Только ты… молчок!
И поспешно вышел.
Державному не верилось, чтобы у него в столице, в двух шагах от лица его, мог созреть и исполняться открыто настолько отважный план. А что выполнение этого плана могло навести много хлопот и поставить его самого, до сих пор все направлявшего к далекой, раз поставленной цели, в положение страшно затруднительное, это представлялось ему так наглядно и осязательно. На Вологде, при Алегаме, десятка два с половиною детей боярских да земской стражи вполовину. А Васька, коли с этим вором Стромилой решается ехать, стало быть, рассчитывал уже, где по дороге забрать людей: и явятся с сотнею-двумя. Ну – и довольно! Все пойдет как по маслу. А там прискачут братцы и сродники! Грянет Литва. Да, как знать… и в Москве, видно, есть ловкачи вроде Ваньки Палецкого. Вишь ты, в воеводы норовит, сопляк! Посмотрим!..
И он, в холодном поту весь, выбрался за дворец, мимо верхнего огорода прошел к калитке у Тайницкой башни и спустился на лед Москвы-реки, не узнаваемый и не окликаемый стражею. За непогодью, впрочем, трудно было различить и в десяти шагах человека впотьмах. Огоньки ярко светились в тереме великой княгини, прорезывая мрак ночи, черной и зловещей, как совесть преступника. Иван Васильевич по льду Москвы-реки пошел все вдаль. Вот в стороне мелькнул огонек в новом доме, у Берсеня Беклемишева. Державный путник взял от него наперерез реки к Черторые и напал на тропинку, протоптанную близ Зачатейского монастыря. Огибая частокол этой обители, князь великий шел, утопая в глубоком снегу. Но вот выбрался он к валу, взобрался на него и услыхал вправо смешанные голоса. Идя на них, Иван Васильевич уже не сомневался, что возня идет на конюшенном дворе и что самая тревога и спешка эта в ночь, на другой день Рождества, действительно внушает веру в слова князя Ушатого.
Ворота на конюшенный двор, против обыкновения, были на запоре, но слышно было, что люди нагружают возы, и возов нагружается множество. Князь великий перешел через улицу и взобрался на сруб, с которого видно было все, что делается за стеною колымажного двора великой княгини. В ряд выстроено было тридцать повозок, над которыми работали спешно люди, укладывая и увязывая надежно возы, как готовить надо в далекий путь. Невидимому во мраке ночи царственному дозорщику на его наблюдательный пункт долетали даже слова, где имя старшего из живых его сына и Ярославская дорога пересыпались словами: «сайдаки», «колчаны», «шапки железные», «самопалы», и другие выражения, имевшие место в распоряжении тогдашнего воинства, но никак не относившиеся к мирному положению.
Вот из избы нарядчика вышел, должно быть, набольший, и ему стали светить двумя громадными головнями, трещавшими только от редких снежинок. Вышедший торопился с выездом обоза в эту еще ночь.
– Да помилуй, осударь Володимир Елизарыч, никоими делы нам не успеть, – смиренно и почтительно возражал нарядчик. – Перво дело, коней столько нет! Нельзя же с вами отпустить всех: могут потребовать наутре же, и тогда что? Вам самим не корысть. Все откроется. А потерпеть до полудни заутра: с Романова татаре приведут, и хоть всех возьмите, не в примету будет.
– Да нельзя, говорят, ждать! Заутра государю князю нашему милостивому уже не удастся вырваться: тетенька их съезжают.
– Так ведь и распрекрасно, тетеньку проводить?
– Так не приведется. Посылают князя Юрья Ивановича с пестуном, и то до Угреши, не далей. Должно, князь Иван Юрьич уже подозрение возымел?
– Ну да и наличные аргамаки в недостаче будут. Легко ль, ваша милость требует осьмдесять девять? А у нас и всево-от на Москве, никак, шестьдесят шесть. Ну и что вам такая тьма? Не для походу ведь, а для баловства, так только… гонять коней от нечего делать. С жиру вы, братцы, беситеся, коли от такого тепла да холи в эку непогодь вас разбирает уезжать, да еще от праздника со святок, в глушь таку непутную… Легко молвить – на Вологду! Уж коли здесь неладно – там и подавно. А все пустяк!
– Нет, не пустяк. Дело важное, да и такое важное, что не удержать тебе, Герасим, головы на плечах, коли севодни в ночь не изобретешь средства нам выбраться! – заключил угрозу свою несговорчивому распорядителю княгининой конюшни дьяк Гусев. Это был он.
Нарядчик только тяжело вздохнул и развел руками в знак невозможности ничего поделать.
«Довольно! – сказал про себя Иван Васильевич, спрыгивая, как мальчик, с двухаршинного сруба в кучу снега. – Теперь, дружки, не уйти вам. Ай да Васенька! Вот так удружил. Хороша и ты, государыня, Софья Фоминишна!»
И, тяжело дыша от гнева, обуявшего его при открытиях, снимавших повязку с глаз дальновидного политика, Иван Васильевич не бежал – летел в Кремль. В Боровицких воротах не пускала его стража, и он принужден был потребовать к себе Ивана Юрьевича.
Патрикеев со сторонниками ожидал уже вспышки какой-нибудь по случаю доноса Ушатова и поспешно явился, стараясь придать лицу своему самое безмятежное выражение.
– Ты у меня на Москве хозяин, а не ведаешь, что мастерят некие добрые молодцы на конюшенном на княгинином, на Софьином дворе? – встретил неожиданным, казалось, вопросом своего доверенного главного администратора гневный Иоанн, бледный и яростный. – Сейчас бери три сотни детей боярских, раздели их на шесть отрядов и разом схвати Стромилова Федьку, Поярка, Ропченка, Палецкого-Хруля, Скрябина и оцепи конюшенный двор Софьи да обыщи тщательно. Ну… поскорей! Я не лягу, пока не получу от тебя донесения… Да окружить терем княгини великой надежными людьми, чтоб никого ни впускали, ни выпускали. Да живей поворачивайтесь!..
Затем Иван Васильевич, глубоко расстроенный и грустный, вошел к себе и велел князю Ушатову принять начальство над придворною стражею.
Князь Иван Юрьевич уехал со своими сторонниками, и опустелый, казалось, Кремль погрузился в полное спокойствие перед утром, уже недалеким и нерадостным. Огонек светился и не погасал между тем до рассвета в двух недалеких друг от друга оконцах, теремов великого князя и великой княгини. Обитатели их бодрствовали и погружены были даже одинаково в думы, не обещавшие ничего отрадного. Владыка всей Руси мучился в борьбе с собою: что делать с виновными? Виновность же казалась ему несомненной.
Великая княгиня-мать бодрствовала над сыном и сперва томилась ожиданьем скорой разлуки, моля провидение, чтобы последовала какая-нибудь задержка и не состоялось бы дело, уже решенное, на которое она согласилась против воли, видя невозможность действовать иначе. Но и согласившись, поддавалась она раздумью, все ища иного исхода и все надеясь, что обстоятельства сложатся как-нибудь иначе. Цель была достигнута: первенство и власть ее сыну путем законного соизволения родителя. В восстание сына явно она плохо верила и думала, что отец, увидев удаль Василия, склонится на исполнение ею задуманного желания. Когда же тревога ожидания, бесплодно промучив ее в продолжение трех длинных часов, в которые должен был последовать отъезд князя Василия Ивановича, представила непредвидимую странность: неявку всех его сторонников, – на мать напал ужас. Она по боли сердца предчувствовала что-то худшее, чем неудача. Малейший шорох бросал несчастную княгиню в лихорадку. Вот чуткий слух ее различил чей-то приезд перед рассветом. Казалось, въехало в Кремль много людей, почему-то старавшихся умерять звуки от езды своей.
«Это они! Наконец!» – думает княгиня, сидя над уснувшим беззаботно сыном. Но это были именно люди, уничтожавшие весь план задуманной интриги. Это были патрикеевцы. Гусев захвачен ими на конюшенном дворе. Осмотр же двора открыл все приготовленное для экспедиции, далеко не шуточной, как можно было судить по количеству и роду вещей. Арест пятерых участников тоже состоялся удачно. Каждого из них спрашивал сам Иван Васильевич и, выспросив все, послал их в тюрьму, приказав строить эшафот, чтобы казнить в тот же день. Распорядившись приготовлениями к казни, государь велел взять князя Василья Ивановича из терема и отвести под стражу. А супруге своей приказал сказать, что видеть ее державный не желает!
Плач прислуги, пронесшийся по терему великой княгини, когда взяли князя Василья, разбудил тетку его, княгиню рязанскую Анну Васильевну, не ожидавшую ничего подобного при дружеском расположении всех и при общем веселье, длившемся во весь вечер, до самого отхода ко сну.
Княгиня Анна бросилась к брату – просить за племянника.
– Может, Василья обнесли, государь, перед тобою злые люди? Пощади свое рождение!
– Сестра, я сам убедился во всем, что он хотел мне наделать злого, но успокойся: не пролью ево крови, как хотел он пролить кровь Дмитрия! Ни за Василья, ни за Софью – не проси.
И княгиня поспешила уехать к себе под предлогом свадьбы дочери.
Часть III
I. Удача, да не совсем
Одна волна сбросила на гору, другая может унести опять в море!
Из старой трагедииВ то же время, когда княгиня Анна Васильевна выезжала на знакомую ей Рязанскую дорогу, по Смоленской тянулись в ряд пять подвод, должно быть, с добром немалым. Кроме погонщиков, людей боярских при добре не видно. А что не пустые возы и в них не какой-нибудь хлам – можно заключить по тщательной увязке и покрышке кибиток, все сукном лятчиною.
– У нас-от, на Москве, из этой бы самой лятчины понашить ино кафтанов, с лихвою и с большим походом можно бы было воротить всю свою затрату за вещь и за провоз! Вестимо, едут из неметчины возы загадочные, да и мужички-то при них говорят таково чудно! Московская речь звонит, что твой колокол с серебром, а у этих язык словно суконный, да и таращат зевье, выворачивая слова нескладные, словно икать собираются!
Толки и замечания такие делал, идя в почтительном расстоянии от въезжавших, знакомец наш великан Сампсон, посланный своим милостивцем князем Иваном Юрьевичем к смоленскому въезду – потолкаться: не окажется ль чего подозрительного? Вот в его богатырскую голову и закралось подозрение чего-то особенного при виде нарядных кибиток в лятчине: давай идти за ними да поглядывать, куда это направляются загадочные вожатаи?
– Никак, вокруг всей Москвы колесить они думают: от Дорогомилова, глянь-кось, все вправо забирают. Да не думайте, дружки, улизнуть: мы-ста хоша сотню верст отмахаем, а не отстанем!
И снова идет великан в ногу с лошадками, тяжело ступающими по рыхлому снегу. Вот уж смеркается. Переехали поперек Тверскую ямскую слободу. Сампсон только вздохнул. Ямщица Матреха, здоровенная бабища, живет тут на Петровке: завернул бы на перепутье, да нельзя: уйдут, и были таковы эти суконноязычные вахлаки[31]! Однако ж – не утерпел, почесал в затылке да, подоткнув края чекменя своего, начал чесать по задворкам. Вот он уже у знакомой избы. Пяток шагов, и – у Матрехи. Не тут-то было: скачет стремянный князя. Признал, злодей, издали. Как гаркнет:
– Сампсон Тимофеич! Сбились с ног тебя искамши. К государю требуют!
– Провались ты, окаянный, – отплевываясь, шепчет про себя обескураженный великан, со вздохом поворачивая оглобли от избы. А она так заманчиво и язвительно выглядывает, словно купчиха, опершись на соседку правым боком. Да еще нахально сверкает яркою оранжевою искрою блеснувшего огонька в единственном оконце своем. Никак, Матреха сбирается ужинать? Теперь-от в самую бы пору!
А стремянный уж подле и хватает за медвежью лапу великана – пойдем!
– Ужо, пожди маленько! – умоляет жалостно Сампсон безотвязного.
– Нельзя, никоим делом не могем. Велел князь: где повстречаем, ташшить – одно слово!
Великан повинуется, тяжело вздыхая, продолжает уверять, что ему не дали доследить за одними сомнительными дорожными.
– Я пустился в обход, чтобы забежать им в лицо. А тебя нелегкая вывернула, на беду мою, со своею крайнею, как уверяешь, надобностью!
– Я-то чем виноват: посылают! Авось аще поймаешь.
И действительно, на повороте с Софийки под гору, к Лубянке, повстречали они те же кибитки, кажись. Сампсон послал стремянного за ними, а сам поспешил в Кремль. Спешка объяснилась новым повелением: разыскать баб-колдуний. Княгиня Елена Степановна хочет найти Василису, а со двора от князя пропала она еще с утра. Иван Юрьевич боится, что поймают бабу где ни на есть и до него повыспросят с пристрастием. А она, может, сболтнет что неладное? Вот он и послал за Сампсоном.
Суровому великану осталось поклоном заявить только почтительную готовность на новую службу. А про себя думал он: попытаться-ка вторично забежать к Матрехе под благовидным предлогом розысков чародеек? Да теперь к ней явиться, хоть бы и поздно было, но повод есть, велят искать ворожей…
Сампсон летит. В переулке слышит, гонится кто-то. Опять стремянный.
– Зачем?
– С ответом, кто такие в кибитках!..
– Кто же?
– Рядом с Холмским дворищем двор новый боярыня купила приезжая – жена деспота Аморескова, что купчиха допрежь была. Князь-от деспот прогнал.
– Вот как?! Поезжай же к князю – донеси! А меня таперича послал на службу, недосуг мне! – И великан зашагал наконец самоуверенно к цели своих стремлений, продолжая ворчать: – Что за житье наше за собачье?! Все гони да гони!
Оставим верного Сампсона допрашивать Матреху, хотя заранее предупреждаем читателя, что по части собрания сведений любопытство великана не имело обильной пищи, взамен удачи во всем прочем. Между тем предмет горячих исканий его или, лучше, исканий, ему порученных от взыскательного князя Ивана Юрьевича, находился не так далеко от места нахождения разыскивателя – у Матрехи же.
Василиса была у ней, когда сильный стук в закрытое оконце и потом в ворота заставил гадальщицу – за которую знала уже бывшую домоправительницу князя Ивана Юрьевича вся Москва – выйти за хозяйкою в сени да спрятаться за дверью, в теплой клети. Грубый же знакомый голос Сампсона заставил Василису обратить особенное внимание на слова его, и, поняв из речей великана, что князь Иван Юрьевич послал искать ее именно, она решилась подобру-поздорову уйти из приюта, без сомнения надежного, но до тех пор только, пока хозяйка будет выдерживать характер да… и не промолвится. По тону же беседы Сампсона с Матрехой Василиса приходила к обратному заключению и исчезновение свое отсюда сочла решительною необходимостью.
Матреха угощает дорогого гостя, а тот успевает и есть и говорить. Вот что-то словно мелькнуло, белое, мимо оконца, с надворья. Сампсон счел за нужное спросить:
– Мы двое только? У тебя никто не живет?!
– Нет.
– Так мне померещилось, видно, будто прошел кто-то в белом?
– Ага! Видно, Сампсоша, ты перед оборотнем не выстоишь?
– А ты небось выстоишь?
– Я-то? Нету, известно!
– Так неча и язык чесать к ночи про таку неподобь!
Зоркий глаз Сампсона между тем видел не мечту. Действительно, ветром отнесло к оконцу белое покрывало Василисы, когда осторожно, без шороха, пробиралась она между принадлежностями хозяйства зажиточной Матрехи под навес. Оттуда через калитку вышла Василиса на огород да через соседские межи, ничем не забранные, направила путь свой к Сретенке. На ней с краю приходился дом князей Холмских, теперь заколоченный.
Проходя сторонкою, мимо пустынных безмолвных теремов, ожидавших давно уже молодого наследника, Василиса столкнулась почти нос к носу с женщиною, как она же, в белом покрывале.
– Ты что тут делаешь, пташка? Да, кажись, знакома! – вырвалось невольно у Василисы при случайной встрече в необычное по Москве время.
– Голос знаком, в самом деле! – отозвалась та, которую окликала наша гадальщица. – Только признать не могу.
– А помнишь гадальщицу в Греческой слободе: ты спрашивала про судьбу свою? Здорова, коли вижу тебя снова.
– Помню! Пойдем ко мне: я здесь недалеко.
– Берегись: меня ищут, – сказала гадальщица, понизив голос.
– Будь покойна, ко мне не придут брать тебя. А если и придут – не дам! – шепнула приглашавшая ей на ухо.
Если вы сами не догадались, я скажу вам, что встретилась с Василисою – Зоя. Она дала у себя приют гадальщице. Вошли они в терем молодой хозяйки, никем не запримеченные, и долго передавали друг другу свои все похождения.
– Так и ты несчастлива, боярыня, оттого, что трое тебя любят, а ты любишь одного только! Судьба моя схожа, пожалуй, с твоею; в этом одном и мое несчастье: любят меня трое, а дорог мне один! – заключила Василиса свою исповедь, медленно позевывая и крестя рот.
Тот, кого называла Василиса дорогим своим, был между тем близок от Москвы.
Максимова вызвал предатель Косой на его погибель, сам того не думая, что дни власти и их обоих с отцом были тоже сочтены.
Они, кажется, не верили, что Бог, кого положил наказать, лишает рассудка.
С каждым шагом, приближающим к цели, не только Иван Юрьевич и Косой, но даже Ряполовский делались самоувереннее и оттого заносчивее. В душе отец не доверялся сыну, но должен был признаваться ему из боязни обоюдного вреда от незнания цели той либо другой эволюции.
Ряполовский же задумал, при поддержке преданной княгини-матери наследника-соцарственника, прибрать к рукам военную администрацию. Ему и удалось бы, может быть, это, потому что Иоанн возымел в это время надежды на мужественного стратига, которому вредил больше всего недостаток уважения к другим, не менее, если не более его достойным. Особенно преследовал он своими насмешками тщедушного князя Федора Пестрого, на ратном поле между тем героя и предводителя с дальновидными идеями, расчет которых никогда не оказывался фальшивым.
Князь Федор Пестрый был горячим защитником Ивана Юрьевича, и Патрикеевы всегда рассчитывали на выбор его в первые воеводы против Литвы, обходя могучего, доблестного князя Данилу Щенятю. Ряполовскому мечталось, что он заткнет за пояс обоих соперников, и друг его Петр Шастунов, со дня открытия заговора Василья Ивановича сделавшийся приближенным к владыке, вслух проповедовал, что князь Семен, а не кто другой прочится в вожди главные в поход, ни для кого не бывший тайною.
Вот сошлись бояре на постельное крыльцо и, вьюги ради, перебрались в сени – дожидать призыва к государю. Посели на лавки по большой стене и завели беседу вполголоса.
– Сопляку такому, как князь Федор, ни в жизнь не дам собою владать, – бормочет младший сын Патрикеева, косноязычный, недалекий, но громадный по статуре Мынинда.
– Еще бы, взаправду сопляк он, хоша и хитер, ворог! – вторит ему Кляпик Яропкин, тоже чающий благодати от щедрой десницы батюшки Патрикеева.
Княжна Федосья Ивановна в это время проходила со своею приближенною боярышнею, родственницею князя Федора Пестрого, по сеням из церкви от обедни. Имя князя Федора Пестрого не ускользнуло от чуткого уха родственницы.
Пришла она с княжною великой в повалушу да и начала жаловаться:
– Вот ужо как Патрикеевич-молодший дядюшку Федора честит: сопляк, бает, да ворог он им! А тот, сердешный, распинается: душу готов положить за Ивана Юрьевича!..
– Чего ж больше ожидать от Патрикеевых? – желчно отозвалась, глубоко вздыхая от грустных воспоминаний, навеянных именем Патрикеевых, княжна. Их интригам бедняжка приписывала заключение матери и брата да и все беды, в последнее время разразившиеся над теремом, опустелым, одиноким, примолкшим от грозы нежданной.
Вошел князь Петр Ушатый осведомиться о здоровье княжны великой. Его принимали, как человека пожилого и добродушного в сущности, хотя всем известного своею недалекостью, довольно снисходительно. Эта недалекость делала его безответным и за зло, нанесенное невольно высказаньем слышанного о заговоре. И в этом видели наведенье его на мысль о передаче государю, конечно данную кем-нибудь поумнее. Несмотря на такую разгадку нравственных и умственных качеств князя Петра Ушатого, отказать ему в доступе в терем опасались, думая в самом выполнении формального посещения видеть хотя непрямое поручение государя.