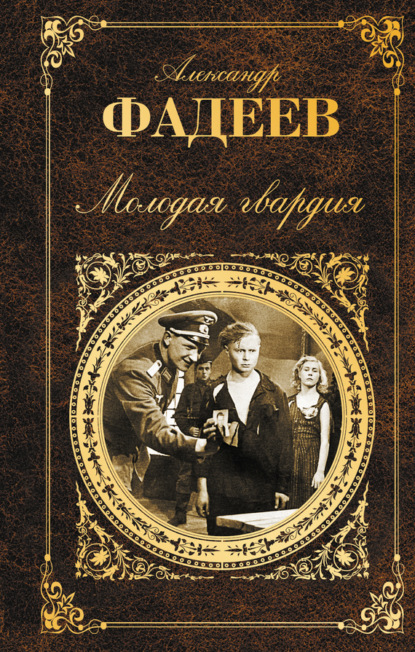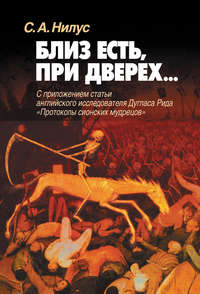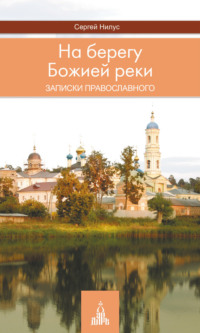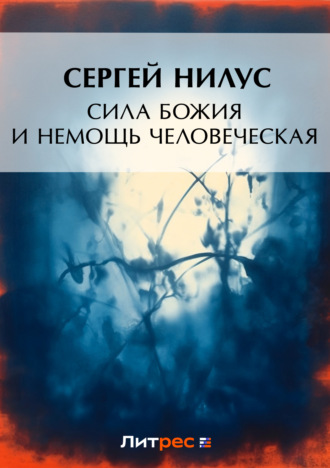 полная версия
полная версияСила Божия и немощь человеческая
Было очевидно, что с этим именем связана тайна его души, но что это была за тайна, выяснилось, как я уже говорила, при конце жизни нашего кума.
II
В начале пятидесятых годов прошлого столетия Андрей Александрович был, что называется, мужчина во всей красе возраста, да и положение по должности помощника казначея, для того мало требовательного в глухой провинции времени, занимал немалое и, стало быть, для многих невест нашего города был приманкой хоть куда. Однако внимание завидного жениха не обратили на себя барышни состоятельного круга, а выбор его, вопреки ожиданию многих, остановился на круглой сироте, жившей из милости в одном богатом доме нашего уездного города. Красавица она была на редкость, но только и было у нее приданого, что ее выдающаяся красота, понятно, что Андрею Александровичу не пришлось за ней долго ухаживать, и скоро в городе прошел слух о близкой их свадьбе. Вскоре слух этот подтвердился: за жениховский счет невесте было сделано приданое, и тут же вскоре их повенчали. Совершилось все это быстро: горожане наши не успели толком и посудачить о женихе с невестой, как они уже стали мужем и женой.
Вот с этого-то рокового дня свадьбы и началось злоключение всей жизни Андрея Александровича.
Из церкви, после венчания, молодые благополучно приехали домой, где их и всех многочисленных свидетелей нового супружеского счастья ожидал обильный пир. Андрей Александрович не жалел издержек, чтобы как можно торжественнее отпраздновать праздник своего сердца. Но Бог судил иначе, и праздник обратился в горе, а веселье – в плач, и на плечи молодому свалилась такая скорбь, которой наши горожане, в патриархальности своих обычаев, не только не видывали, но о которой даже и слухом-то не слыхивали.
По приезде из храма после венчания молодые супруги были встречены толпой поздравителей разного пола, звания и возраста. Полилось шипучее искрометное вино; раздались шумом восклицания, поцелуи, приветствия: в общем приветственном гуле и суматохе смешались все – и поздравители, и новобрачные.
Затем веселая и шумная толпа разделилась на группы и разъединила новобрачных… Хлопали пробки, и искрометная влага рекой разливалась по бокалам…
Молодой сиял радостью увенчанной любви, но непродолжительно было его счастье… Распорядитель брачного пира пришел приглашать новобрачных и гостей к обеденному столу, стали соединяться разрозненные группы гостей, и тут все заметили, что самой виновницы торжества нет ни в одной из собравшихся групп гостей. Раздались по всему дому восклицания:
– Синклитикия Платоновна, где вы?
А Синклитикии Платоновны и след простыл. Искали ее по всему дому, обыскали, можно сказать, все мышиные норки: бегали в сад, искали во всех дворовых хозяйственных постройках… С молодым обморок сделался; а молодая как сквозь землю провалилась, – так и не нашли Синклитикии Платоновны.
Тут всем стало ясно, что сотворилось что-то такое неладное, настолько что-то необычайное, чему жители нашего города сгоряча даже и названия подобрать не сумели. Что же вышло? А вышло то, что Синклитикия Платоновна для отвода только глаз заглянула в квартиру мужа и, воспользовавшись поздравительной суматохой, под каким-то благовидным предлогом вышла из залы, прошла на крыльцо, где уже стоял дорожный экипаж, запряженный четверкой лихих коней, села в этот экипаж и укатила в направлении к выезду из города. Все это, как потом оказалось, видели соседи и ахнуть не успели, а понять-то уже только потом поняли, когда дознались, что Синклитикия Платоновна сбежала с молодым местным помещиком. Узнал об этом и несчастный молодой, но горю своему уже не мог ничем помочь: и молодая, и ее соблазнитель скрылись бесследно из нашего города.
Кто-то из купцов наших, имевших торговые дела с Поволожьем, спустя несколько месяцев после сего романического приключения встретил будто бы беззаконную парочку в Саратове, но обездоленному Андрею Александровичу легче от этого не стало, и он, по коренному обычаю большей части русских несчастливцев, запил мертвую.
Долго пил Андрей Александрович свою мертвую чашу: пил не неделю, не две, пил месяцы. Конечно, такой образ жизни не мог не отозваться на службе, но начальство с полгода по крайней мере терпело его гибельную страсть, сочувствуя безнадежному горю, пока не было вынуждено сделать ему первого замечания.
За замечанием последовало предостережение; за предостережением – выговор; но, покатившись под горку, Андрей Александрович уже не мог остановиться, и пришлось ему вовсе уйти со службы. Любивший его начальник, расставаясь, сказал на прощанье:
– Опомнись, Андрей Александрович! Опомнишься – опять на службу примем.
Хоть и посуровее те времена были против нынешних, но больше по виду: стлали жестко, зато спать было мягче. Теперь наоборот: «На устах – мед, а в сердце – лед», – говорит мудрость народная. Грубоваты были, что и говорить, тогдашние нравы, особенно в нашем захолустье, но сердца умели судить по человеку и сочувствовать страданию ближнего. Таково было и начальство Андрея Александровича, увещевавшее его опомниться.
Но где ему было в то время опомниться?!.. Со службы он ушел, а затем и вовсе выбыл из нашего города.
Посудили, порядили наши горожане о событии, погоревали, что стал он жертвой своей неопытности, предали анафеме и коварную, и ее соблазнителя, а затем, как все на свете забывается, забыли и опозорившее наш город приключение с новобрачными…
III
Но не забывало его бедное, измученное сердце Андрея Александровича.
После того как он расстался с нашим городом, осел Андрей Александрович в губернском городе Т., куда со скудными остатками своих сбережений, с погибельной страстью ко всероссийской утешительнице – чарке, перевез и свое одинокое горе.
Когда было пропито все и оставалось только носильное платье, чудом уцелевшее на его грешном теле, пришло время ему волей-неволей приостановить запой. В Т. нашлись добрые люди, разглядевшие и под пьяным обличьем живую и страдающую человеческую душу, и, когда кончился запой, определили они Андрея Александровича по вольному найму писцом в губернское казначейство.
Старая, привычная работа затянула мало-помалу своим механическим трудом когда-то образцового служаку, и потекла на новом месте прежняя чиновничья жизнь – серая, тусклая, однообразная… а все же – жизнь…
Андрей Александрович смирился, но с этого времени сделался тем женоненавистником, каким я его впоследствии узнала, замолчал наглухо и молчал так крепко, что только перед открытой, как говорится, могилой рассказал одной мне, по особому доверию благодарности за мой уход во время его болезни, историю своей искалеченной, горькой жизни.
В Т., однако, недолго пришлось ему пользоваться своим относительным покоем; недолго продолжалось мрачное полузабытье, каким душа его стремилась отделить себя от соприкосновения с миром…
Снимал он в одном из Т-ских переулков, поближе к казначейству, не то от хозяев, не то от жильцов, комнату окнами в переулок.
Как-то, уж под вечер, – дело было поздней осенью, – придя со службы и отобедав чем Бог послал, засел он, по усвоенному обычаю, у окошечка и стал глядеть на улицу… Известны картины провинциальных переулков глухой осенней порой, когда на них спускается сумрак ненастной, холодной ночи!.. Лил дождь, обмывая запыленные с лета и засиженные мухами стекла. Темнело, скорее серело.
Андрей Александрович все сидел да сидел, не отрывая потухшего, безжизненного взгляда от потемневшего окошка, бессмысленно, но упорно следя за струйками дождя, слезящими оконные стекла.
Весь ушел он в свое безотрадное, унылое одиночество. Впереди – тоска, беспросветная, глухая ночь! А позади? Жгучая, незаслуженная, несмытая обида, непоправимое, неисцеленное горе.
Вдруг – стук в соседнее окошко!.. Там – другой, третий… И кто-то упорно барабанил сперва по стеклу, а затем, уже сильнее, по оконной раме.
Настойчивый, наглый стук этот вывел горемыку из его забытья, сжалось сердце от предчувствия какого-то нового неожиданного удара: Андрей Александрович встрепенулся, вскочил и бросился к окошку, в котором от стука дребезжали стекла… Не успел он его открыть как следует, как чья-то рука сунула в полуотворенное окно какой-то мягкий сверток, и из сумрака сгустившейся осенней ночи вместе с порывом ворвавшейся в комнату промозглой, холодной сырости, как отравленный кинжал, в самое сердце Андрея Александровича вонзился звук знакомого, любимого голоса:
– Андрей! Это тебе – твоя дочь Татьяна. Люби ее вместо меня!
Пока ошеломленный неожиданностью и страшной сердечной болью несчастный успел опомниться и прийти в себя, за окном уже никого не было; а в мертвой тишине захолустного переулка, где-то вдали погромыхивая, замирал шум колес удалявшейся кареты, уносившей, как и в тот роковой свадебный день, ту, кому так безнадежно было отдано бедное сердце… Неужто это она была у окошка – жена его по одному только, ею опозоренному, его имени… Не сон ли это был, тяжкий, гнетущий кошмар?…
Нет, то не был сон: в судорожно сжатых руках Андрея Александровича нечто живое, закутанное в мягкий женский платок, беспомощно билось и трепетало, пищало жалобно так, жалобно…
IV
Одному Богу было известно, какое чувство руководило матерью несчастного ребенка, кинувшей его в руки коварно обманутого ею человека и мужа только по имени, но Андрей Александрович ребенка не бросил.
Когда он опомнился от страшного нервного потрясения, первым его порывом было броситься вслед за извергом-женщиной, не пощадившей в нем ничего святого. Он, было, и бросился со своим свертком на улицу, но злодейки и след уж простыл; один только убогий огонек уличного фонаря, засветившийся на отдаленном перекрестке в сыром тумане осенней ночи, мог бы указать, куда умчалась мать покинутого ребенка, но он молчал, безмолвный свидетель тяжкого преступления, совершенного предательской рукой над беззащитным сердцем. Куда было бежать?… Между тем, живое, беззащитное, маленькое существо билось в судорожных конвульсиях, надрываясь от беспомощного плача.
Эта жалкая беспомощность смягчила сердце несчастного… И с той роковой ночи удивленные хозяева, затем соседи, а там и весь переулок узнали, что Бог дал Андрею Александровичу дочку Таню. Одни пожимали плечами не без некоторой доли ехидства; другие недоумевали; третьи пребывали равнодушнее, но таких, конечно, в Т-ском переулке было значительное меньшинство, как и во всякой провинции, склонной проявлять особый интерес к интимной жизни ближнего.
«Это – твоя дочь Татьяна!»
О, злая, беспощадная насмешка! Она жгла бедное сердце и днем, и ночью, как раскаленным железом! Что бы с ним было, если бы не ребенок, отвлекавший заботой о себе его сердце от безнадежного отчаяния, – христианину страшно и подумать! Беспомощность и заброшенность ни в чем не повинного младенца, покинутого на его попечение, гнали от Андрея Александровича черные мысли, и он кончил тем, что страстно полюбил маленькую Таню. Кто может проникнуть в глубины человеческой души? Не перенесло ли отвергнутое сердце своей любви на то, что было живой частью любимой женщины?… Дома Андрей Александрович ни на минуту не расставался с ребенком; только служба – источник пропитания этих двух заброшенных существ отрывала его от маленькой Тани, зато все остальное время было посвящено ей безраздельно. Как же любило, стало быть, его сердце и мать этого ребенка!
Но недолго крепился Андрей Александрович: старая тоска, неизжитое горе взяли верх над воздержанием, одолела старая страсть, и – опять завилось горе веревочкой, и затонуло оно в мертвой чаше. Запил бедняга.
В Т., где его меньше знали, меньше и терпели на службе, когда стала заметна начальству пагубная страсть, вернее, болезнь горемыки; со службой ему пришлось расстаться вторично – с тем рушилась, стало быть, последняя преграда, сколько-нибудь удерживавшая его от окончательного падения.
Опускаясь с каждым днем все больше и больше, спуская последние гроши, Андрей Александрович дошел, наконец, до того, что стал таскаться по самым последним кабакам, пропивая даже остатки домашней своей обстановки. В ненастный зимний вечер, когда на дворе бушевала такая вьюга, что добрый хозяин на улицу и собаки не выгонит, забрел он с питомицей на руках в один из последних притонов пьяной страсти. Побоялся, что ли, темной ночью, в морозную вьюгу возвращаться с ребенком домой, или у него к тому времени и дома-то не было, только пришлось ему заночевать с малюткой на холодном земляном полу у кабацкой стойки. Видно, есть до поры до времени у пьяного своя судьба-покровительница, или уж Богу не угодно было погубить исстрадавшуюся душу, только Андрею Александровичу эта ночевка прошла даром, а ребенок простудился насмерть и, прохворав с неделю, отдал Богу свою ангельскую душеньку.
Эта неделя у изголовья умиравшей Тани отрезвила несчастного, со смертью его последней на земле привязанности отступила от него и его гибельная страсть: он бросил пить и уже до конца своих дней более не прикасался к рюмке.
Что творилось в его сердце, что вынесла его душа, когда маленький могильный холмик навеки скрыл последний живой лучик минувших надежд?
Видно, и яд бывает сладок, если его подносит любимая рука. Люди старого закала это понимать умели. Должно быть, понимал это и Андрей Александрович…
V
Последний, совершенно трезвый период жизни Андрея Александровича весь прошел в нашем городе. По возвращении его приняли на службу в казначейство, где он вскоре занял свое прежнее место помощника казначея. Трезвым-то он был служака отменный.
К тому времени история его настолько успела забыться, что для меня она явилась откровением. Родители-то мои, быть может, ее и помнили, но с нами, дочерьми, об этом никогда не говорили. Наши времена-то были не то, что теперешние: и взрослые не всегда знали то, что теперь детям открывают чуть не с пеленок…
Прошло пять лет со времени кончины новопреставленной Синклитикии, умершей в остроге. От Андрея Александровича, когда он поведал мне свою историю, я узнала, что узница была его женой. Двенадцать лет томилась она в тюрьме, так и не увидав больше земной свободы. Тайну ее преступления Андрей Александрович унес в могилу; только стороной, значительно позже, довелось мне от кого-то слышать, что ее соблазнитель умер от болезни, которая судебным властям показалась подозрительной: едва ли он не был отравлен, и вот по делу-то об его отравлении и обвинялась жена нашего горемыки. В те времена суд был долгий, и Синклитикия Платоновна до суда так-таки и не дожила, отстрадав в остроге и отплатив своими страданиями Небесному Правосудию за то зло, которое она на земле причинила бедному сердцу своего мужа. Но за достоверность этого слуха я не могу ручаться: другое бы дело, если бы я об этом узнала из уст самого Андрея Александровича, а он, как я уже сказывала, на этот счет не обмолвился ни одним словом: видно, хорошо умело прощать его сердце.
Со времени возвращения в наш город Андрей Александрович поселился в нашем доме и так к нам привязался, что даже крестил вместе со мною младшую мою сестренку. Духовным этим родством он очень дорожил и до конца жизни звал кумовьями моих родителей. Меня же он звал просто по имени – Анютой.
Так вот, когда прошло пять лет со смерти жены, заболел и наш кум-горемыка.
Старый ли запой отозвался на потрясенном организме, а может быть, – кому доступна глубина человеческого сердца – и трагическая смерть жены повлияла, но этой болезни суждено было стать для Андрея Александровича последним этапом к переходу в вечность.
VI
Необыкновенно заболел предсмертной болезнью наш несчастный. Видно, уж так было Богу угодно, чтобы за исключительные его страдания увенчаться ему и исключительной кончиной.
Был май месяц 1881 года, около двадцать пятого числа. Сирень уже отцвела.
Наступало жаркое лето… По издревле заведенному в провинции доброму обычаю, послеобеденные часы посвящались сладкому отдохновению, как тогда говорили, «в объятиях Морфея» или «Храповицкого». После обеда, обыкновенно раннего – не позже двух часов – и после отдыха у нас к пробуждению домочадцев ставился самовар; за которым обычно хозяйничали или моя мать, или я, как старшая. На меня же возлагалась и обязанность будильщицы.
Андрей Александрович отдыхал после обеда в одной комнате с отцом: отец – на постели, а он – на диване. До этого дня наш кум был совершенно здоров, да и после обеда лег отдыхать, ни на что не жалуясь. Когда все стали собираться к послеобеденному чаю, а его, смотрю, все нет. Я окликнула его, но ответа не получила. Окликнула опять. Ответа нет. Вошла я в комнату, где он отдыхал, и что же вижу? Стоит Андрей Александрович около своего дивана почти совсем одетый; в руках у него жилетка, и он все мнет ее в руках, а сам ничего не видит и не слышит.
– Андрей Александрович, а, Андрей Александрович! Идите ж чай пить: все уже собрались и вас ждут.
А Андрей Александрович хоть бы голову повернул в мою сторону: стоит, как зачарованный, мнет в руках жилетку, глаза широко раскрытые смотрят куда-то вверх и все в одну точку. У меня сжалось сердце от неясного предчувствия. Я опять – ему:
– Андрей Александрович! Да идите ж: мы чай пить вас дожидаемся!
Он как будто опомнился немного от настойчивого тона моего голоса и стал отвечать, но все не отрывал взгляд от какой-то невидимой мне точки:
– Некогда, некогда мне теперь, Анюта, чай пить: домой надо идти скорее!.. Давай мне сапоги, калоши, шапку, палку!.. Да, неси все скорее… Пора, пора!..
Я не поняла сразу – куда это ему пришла пора собираться, и хотела было обратить его речи в шутку: думала, не заспался ли мой Андрей Александрович.
– А где дом-то ваш? – спросила я. – Куда это вы так идти-то спешите?
– Там – мой дом! – указывая вверх, ответил Андрей Александрович, – там – и мой, и твой, и кума, и всех, всех!..
А глаза у него стали как-то еще больше. На зрачки прямо жутко было смотреть – до того они расширились…
Так вот оно что! – подумала я испуганно…
– Там, там – дом наш! – продолжал говорить, точно в забытьи, Андрей Александрович, – все скоро там будем: и кум, и кума… и ты туда тоже пойдешь в свое время!.. Никто дома своего не минует!..
– Да вы разве что-нибудь там видите? – спросила я, а у самой сердце так и заколотилось.
– Все, все вижу, Анюта… Хорошо там, Анюта! Веди меня туда скорее, скорее веди! Уж немного осталось мне до дому: веди скорее!
– А как немного-то?
– Да три шага всего, а там и дом!
И Андрей Александрович вздохнул с какой-то особенной радостью удовлетворения…
Тут вошел в комнату мой отец, и мы, кое-как надев на Андрея Александровича его жилетку и пиджак, привели его к чайному столу. Он шел с нами, как автомат, устремив взгляд все в ту же незримую для нас точку.
Привели его к столу, усадили, налили ему чаю… Он вдруг склонил голову на руки и, облокотившись на стол, стал тереть одной рукой лоб и все в том же полузабытьи говорить:
– Быть и не быть – статья мира такая!.. В этом вся статья мира: сейчас тут, а завтра – где? Был и нету!.. Как – нету? Есть!.. Был, есмь, буду!.. Вот и вся статья мира: быть!..
Все мы тут поняли, что Андрею Александровичу настало время умирать, и что это – ему предсмертное видение.
Водворилось торжественное и вместе жуткое молчание… Продолжалось оно довольно долго, а Андрей Александрович все тер лоб и приговаривал все те же слова…
Наконец молчание наше было прервано моим отцом:
– А мне, – спросил отец, – скоро, кум, там быть?
– Вскоре после меня и ты туда пойдешь! – отвечал ему Андрей Александрович…
И мать, и я, и сестра стали его о том же спрашивать, но тут у него внезапно покраснело лицо: он как-то полуоткинулся на кресле и захрапел. Глаза закрылись… Мы хотели его поднять, чтобы перенести на кровать, да не осилили – послали за нашим кучером, и с его помощью отец перенес Андрея Александровича в свою комнату. Хотели, было, там уложить его на диван, но сделать этого не удалось: какая-то сила приводила его в сидячее положение…
Так мы и оставили его сидеть, обложив подушками, а под ноги поставив кресло.
Он все храпел, но лицо уже не было так красно.
В таком положении он провел восемь суток, не приходя в сознание. Хотели призвать доктора, но кум наш врачей терпеть не мог, и отец мой, боясь, как бы он, придя в сознание, не увидел около себя доктора, звать его не позволил.
Тяжелое для всех нас было время – эти восьмеро суток: приходилось и днем, и ночью дежурить у изголовья больного, ни на минуту его не покидая, в ожидании, что вот-вот он придет в себя. В конце последних суток у него вдруг открылось горлом кровотечение: много вышло крови, и тут кум очнулся в полном сознании.
Потребовал, чтобы его обмыли; надел, с помощью отца, чистое белье и, как ни в чем не бывало, только очень слабый, вышел через восемь суток своего забытья к послеобеденному чаю. За столом сидел, как здоровый, но из-за стола встать не смог: с ним сделалось что-то вроде паралича в ногах, и тут-то он уже окончательно заболел своей предсмертной болезнью.
VII
Тяжелая эта была болезнь и сопровождалась таким тяжелым запахом от больного, что отец мой, несмотря на все расположение к куму, уговорил его поместиться в городской больнице. Сам свез его туда на своей лошади и сдал с рук на руки больничному начальству.
– Не скучай, кум, – сказал он, – навещать тебя будем каждый день. А поправишься – опять к нам, милости просим. Видишь – твое дело идет на поправку: какие были ноги-то твои? А теперь уже и владеть ими начинаешь. В больнице тебя живо выправят.
Кум обещал не скучать. Но не прошло и двух дней, как он неожиданно для всех вернулся к нам в дом, едва передвигая свои больные, опухшие от водянки ноги.
Отец был в это время на службе.
– Обманул кума-то: не остался в больнице, – объявил он с болезненной и жалкой улыбкой, – к вам притащился помирать – уж вы меня, ради Христа, не гоните!
У кого же хватило бы духу гнать беднягу, и он остался доживать у нас свои страдальчески последние дни. Но было немыслимо, чтобы он оставался в доме: слишком тяжкий дух шел от его больного, исстрадавшегося тела, и мы на общем совете порешили поместить больного в нашем саду. Была там небольшая холодная постройка – уютная, чистенькая, заново оклеенная обоями комнатка, куда в летнюю жару отец мой любил удаляться на ночлег – от ночной духоты в доме и от утренних мух; вот эту-то комнатку мы и отвели больному. Шел июнь месяц; стояло тепло, и ему в саду было куда лучше, чем в доме. Только другая была беда: никто из прислуги за ним ходить не хотел, не перенося запаха.
Пришлось ходить за больным мне, его куме: так и ходила я за ним до последней его минуты.
Тихой, блаженной была кончина страдальца. За две недели до смерти, по его желанию, мы его особоровали и причастили, и с этого дня и до самой кончины он не переставал тихонько, про себя петь: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!..
Изредка просил меня поиграть на гитаре – я на ней немного пощипывала, – а затем опять принимался петь Трисвятое.
Так и прошли последние две недели перед смертью.
Жалел он меня, понимая, что тяжело мне за ним ухаживать, хотя я этого ничем не показывала:
– Потерпи немного, бедная Анюта: скоро, скоро я тебя освобожу – уже и шагу полного не осталось до могилы!
– Полноте, Андрей Александрович, что вы говорите такое: еще мы с вами в «шестьдесят шесть» поиграем. Бог даст, скоро совсем поправитесь!
А где там было поправиться: больной таял, как догоревшая свечка.
Он загадочно и грустно улыбался в ответ на мои успокоительные речи, а сам все твердил:
– И полного шагу-то и того не осталось!
Я не понимала в то время этих слов: из памяти вышло, что говорил он нам во время своего видения. А дело-то потом само себя оказало, и стало ясно, что это были за «шаги» Андрея Александровича.
Двадцать четвертого августа была суббота. Я пошла вечером ко всенощной.
Возвращаюсь домой, а мне прислуга и говорит:
– Вас что-то Андрей Александрович скричался: идите к нему скорей!
Я побежала в сад и с ужасом увидела: стоит мой Андрей Александрович в дверях своей комнаты и не своим голосом кричит:
– Анюта! Беги скорей, купи два хлеба!
И было чего мне по первоначалу испугаться: все время мой больной был без ног, а тут встал сам и стоит у дверей, как здоровый, да еще кричит таким, показалось мне, страшным голосом. От изумления и с перепугу я не сразу ответила, а он опять кричать:
– Беги скорей, покупай два хлеба!
Тут я немного пришла в себя и ответила:
– Успокойтесь, Андрей Александрович, подите – лягте: какие теперь хлебы – булочные все заперты.
– Да не эти хлебы – не булочные: небесные два хлеба принеси для нас с тобой, Анюта!