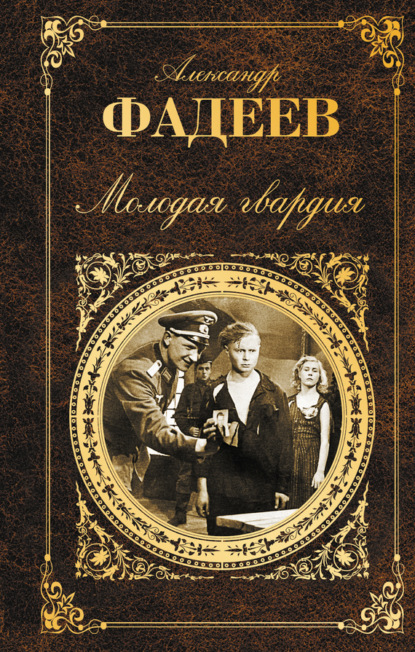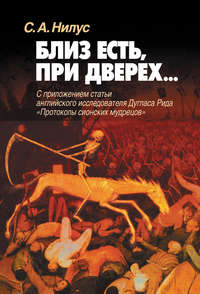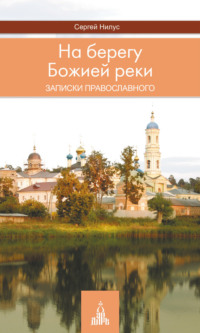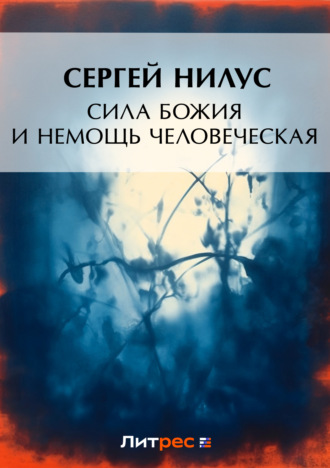 полная версия
полная версияСила Божия и немощь человеческая
Когда я поступил в монастырь, со мною вместе поступил и мой вороненок, возмужавший и ставший уже добрым большим вороном.
В одиночестве и в скорбях, которыми меня преследовала вражья сила, я привязался еще более к моему другу. Был у меня в Туле знакомый инженер, и он мне прислал для моего ворона серебряных бубенчиков и медаль с выбитой на ней надписью: «ворон отца Феодосия». Я приладил и то, и другое на ворона: медаль повесил ему на грудь, а бубенчики, как у охотничьих ястребов, на хвост и на оба крыла. И когда в таком уборе летел мой ворон, то его слышно было издалека, а отец игумен, бывало, сидит на крыльце и, улыбаясь, говорит;
– Ну, вот, и становой наш едет.
И все смеялись на игуменское замечание.
Иногда мой ворон и проказничал на свой воровской вороний лад: он повадился летать к одному лебедянскому мяснику и портил у того вывешенные для просушки кожи.
С мясником мы сошлись полюбовно, он обещал не делать вреда моему другу, если я буду платить за убытки. В другой раз он залетел в окно к молодому лебедянскому квартальному и стащил с окна деловые бумаги, которые тот только что принес от городничего. Квартальный этот незадолго до того женился, и, конечно, его больше тянуло к жене, чем к служебным обязанностям. Придя от городничего, он положил на окне бумаги, перевязанные красной ленточкой, а сам пошел в соседнюю комнату пить чай с женой. Все это видел с крыши соседнего дома мой ворон, и когда квартальный ушел, он слетел со своего наблюдательного поста и, схватив на лету за красную ленточку бумаги, полетел с ними в монастырь, где и запрятал их в порожнюю разбитую бочку. Эту сцену заметили соседи, подняли крик, на который прибежал квартальный и послал в погоню за вороном верховых пожарных. Сколько тут было суматохи, сколько всякого гвалту!.. В монастыре всем было известно место, куда мой ворон складывал все, что ему удавалось стащить, и бумаги в целости были найдены в разбитой бочке.
Для меня ворон был большим утешением, даже привязанностью; и пернатый друг платил мне, как умел, своей птичьей любовью.
Помянув, таким образом, добрым словом моего верного друга, я обращаюсь вновь к прерванному повествованию.
Так вот, когда на другое утро после истории с воровством восковых свечей сидел я на своем крылечке и кормил ворона, пришел ко мне молодой еврей, торговавший вином за монастырской оградой в одной из ближних посадских улиц. Сняв вежливо шляпу, он поклонился мне и сказал:
– Какое прекрасное место, отец Феодосий, вы выбрали себе!.. Мне очень бы желательно было с вами поближе познакомиться. Вы не смотрите на то, что я – еврей: у нас Бог Отец один, и я хорошо понимаю и вашу религию, и все, что касается до монашеской жизни.
Завелась беседа на библейские темы, и мой собеседник, оказавшийся очень начитанным в Библии, попросил позволения зайти в мою келью. В келье беседа продолжалась, под конец мой новый знакомец сказал:
– Батюшка! И между евреями есть люди по жизни гораздо более благочестивые, чем живущие в вашем монастыре послушники из исключенных семинаристов.
Вот я вам скажу хотя бы про игуменского келейника, Ивана: он не честен, а ему отец игумен даже вверяет ключи от многих замков в обители, когда отлучается из монастыря. Мне жаль отца игумена – его Иван когда-нибудь так обокрадет, что у него ничего, кроме носильного платья, не останется. Вы только, отец Феодосий, не говорите, что от меня слышали, Ванька ворует у игумена восковые свечи пучками и, срывая с них бумагу, кладет их в чугуны, ставит в печь, а когда воск растает, разливает его в кружки фунтов по семи, и по три, и по пяти. У меня он забирает водкой, а за нее расплачивается воском. Сообщите об этом отцу игумену – тайно, только меня не выдавайте: ведь Ванька-то не один – у него есть и товарищи по воровству, пьянству и распутной жизни. Если вы выдадите, то они могут жестоко отомстить.
Заручившись от меня обещанием, что о его имени не будет и речи, еврей ушел, выражая мне всяческое уважение и рассыпаясь в благодарностях за ласковый прием.
Вскоре после этого посещения пришел ко мне отец игумен и в разговоре сообщил мне, что у него пропали две бумажки по пятьдесят рублей.
– Я хорошо помню, – говорил игумен, – что я их куда-то положил, но вот искал, искал их и нигде не нашел. Взять их у меня, казалось бы, некому: кроме келейного Ивана, у меня и не было никого.
– А вы, батюшка, – предложил я, – попробуйте-ка так сделать: прикажите заложить лошадь да скажите Ивану, чтобы он знал, что вы об этих бумажках помните: поищи-ка, брат, пожалуйста, их хорошенько – мне сейчас недосужно, а вернусь я, тогда ты мне их и отдашь. Деньги, наверное, найдутся, и вы тогда убедитесь, насколько верен вам любезный ваш келейник.
Игумен так и сделал: съездил в город и, когда вернулся, Иван ему поднес будто бы найденные в Библии деньги. В свою очередь, я, чтобы яснее доказать отцу игумену неблагонадежность его келейного, посоветовал опять куда-нибудь отлучиться и спрятать все ключи, кроме одного – от свечного чулана. По отъезде отца игумена я сел у пруда ловить карасей, а Иван проделал свою штуку со свечами, как по писаному. Когда возвратился игумен, я раскрыл ему Ивановы штуки и показал в выгребной яме торчащие пучки свечей, набросанные туда его любимцем. Игумен был поражен и вскоре выслал Ивана вон из монастыря, объяснив ему, что это я довел до сведения о всех его мошеннических проделках.
Конечно, уходя из обители, Иван пригрозил мне местью:
– Отплачу я тебе, такой-сякой! Погоди – будешь ты у меня помнить хлеб-соль! – сказал он мне на прощанье.
Вскоре иду я с конного двора с ведром воды, а бывший келейный стоит у садовой калитки и держит в руках моего ворона. Ворон бьется, кричит, щиплет ему руки, а Иван на моих глазах взял да изо всей силы и ударил его головой о каменную стенку, так что кровью его забрызгал всю стенку, да и кричит мне:
– Вот тебе моя благодарность! Погоди, я тебе и еще отплачу!
Мне и до сих пор еще жаль моего ворона – каково же мне было тогда!.. Прости, Господи, творящему зло и не ведающему, чью он творит волю!..
Был у меня обычай в хорошие лунные ночи выходить на молитву в сад. Хотел я было идти молиться Богу на открытом воздухе и в ночь того дня, когда так безжалостно лишили жизни моего пернатого любимца, но на меня напал какой-то небывалый страх. Осенил я себя крестным знамением и не пошел наружу, а наутро пришел ко мне один из братии да и говорит:
– Счастлив ты, что не выходил ночью из кельи – тебя караулили несколько человек, чтобы убить. Пойди-ка, посмотри, какие они по себе следы оставили!
И, действительно, у садовой беседки я нашел на примятой траве разбитые водочные бутылки и четыре короткие, по аршину, дубинки: дожидались меня, стало быть, мои ненавистники, да Бог отвел – не дождались.
LXI
В великих скорбях моих Господу угодно было даровать мне и великое утешение в лице семейства Федотовых: у них находил я во всякое время сердечное к себе сочувствие, они меня поддерживали благим советом, они и воодушевляли к терпеливому несению всякой ниспосылаемой на меня скорби. После тяжелого объяснения с отцом игуменом, когда он решительно объявил, чтобы я выходил вон из монастыря, я был в доме моих благодетелей и, рассказав им о том, что меня выгоняют, как неспособного, малодушно и горько заплакал. Плакали со мной и они, мои незабвенные доброжелатели, и посоветовали остерегаться выходить по ночам из своей кельи, убедив меня приглашать на ночь в сад какого-нибудь караульного. Я и пригласил одного мужика, живущего близ монастыря, по имени Иона, чтобы он приходил ночевать ко мне в сад. Об этом прознал отец игумен и тайно от меня выгнал моего караульщика, а сам, опять возгоревшись ненавистью, порешил сбыть меня из монастыря в архиерейский дом при посредстве своих консисторских хлебосолов и соборного ключаря. Чтобы скрыть свой замысел, игумен с казначеем через консисторских приятелей предварительно устроили вызов в архиерейский дом двоим из нашей обители, чтобы показать мне, когда и меня вызовут, что не со мной первым это делают.
Узнав об этих происках, благодетель мой, Лука Алексеевич Федотов, немедленно отправился к игумену и поклялся своей честью, что если тот меня чем-либо замарает в глазах владыки или составит против меня какие-нибудь другие козни, то он вслед выедет сам на почтовых к владыке, и тогда уж пусть игумен не гневается – он все расскажет владыке и раскроет перед ним всю их с казначеем подноготную.
На всякий случай Лука Алексеевич заготовил было и письмо к владыке Феофану, но тут Феофана вскоре перевели во Владимирскую епархию, и письмо, хотя и было отправлено, но, за отъездом владыки, оставлено без последствий; кажется, впрочем, более потому, что незадолго перед этим письмом в Тамбовских Епархиальных Ведомостях было опубликовано о награждении нашего игумена за «примерное управление обителью». То ли еще бывает в век наш!..
Как бы то ни было, а заступничество за меня Луки Алексеевича сделало свое дело, и при новом владыке Феодосии, во время посещения им нашей обители при обозрении епархии, он меня, грешного монаха Феодосия, рукоположил во иеродиакона, во время архиерейского служения в Троицком храме. И совершилось это событие в 1864 году июня в пятнадцатый день.
В тот же день и наш казначей получил набедренник за примерное ведение монастырского хозяйства.
По отъезде владыки слабость монастырского управления достигла высшей степени, и последствием распущенности стало то, что один из наших иеродиаконов в пьяном виде утонул в монастырском пруду. Узнали об этом только тогда, когда усмотрели плавающее тело, а до тех пор – так хороши были монастырские порядки – никому и в голову не пришло справиться, куда пропал целый иеродиакон. Дали, конечно, знать в полицию, началось следствие: приехал частный, но без лекаря, посмотрел с понятыми на вынутый из воды труп, отобрал ото всех показания и, написав акт дознания, велел всем подписываться.
Подписался игумен, подписался казначей, приложили братия свои руки без всякого возражения, велено было подписаться и мне. Я видел, что все подписывались, не зная даже, что к чему, так как акт дознания никому не был прочитан, а лист, на котором отбирались подписи, был белый и к делу подшит особо, да и самые показания не были скреплены и прошнурованы; потому я попросил частного, чтобы он мне сперва прочел, к чему я должен был прикладывать свою руку. Конечно, для меня после начальства все равно было под чем подписываться, но я хотел, чтобы стала известной причина этого несчастного происшествия: мне важно было, чтобы дознание установило факт пьянства в монастыре, и тогда этой причины смерти иеродиакона нельзя было бы утаить в рапорте преосвященному. Я надеялся, что хоть официальное дознание обратит внимание владыки на бесчинства, допущенные в обители слабым управлением.
Мое несогласие до крайности раздражило как игумена, так и частного. Казначей же стоял в стороне и, видимо, радовался моему ослушанию, уверенный, что за него мне придется тяжко ответить перед светской властью и пасть окончательно в глазах отца игумена. Но мне было все равно: я хотел пожертвовать собой для блага обители.
И поднялась же тут на меня, Боже великий, такая брань, посыпались со всех сторон такие угрозы, что, не будь твердо и обдуманно мое решение, впору было бы бежать без оглядки. Когда замолкли общие крики, выступил против меня и сам частный и, грозно возвысив голос, крикнул:
– Знаете ли вы, кто я? Знаете ли, что я с вами сделаю? Я составлю сейчас на вас протокол и засвидетельствую ваше ослушание законам и власти, а затем предам уголовному суду!
– Воля на то ваша, – ответил я, – делайте, что хотите, но я не подпишусь.
Частный еще более возвысил голос и, как громом, хотел поразить меня словами:
– Именем Государя Императора приказываю вам – подпишите, или я докажу вам силу законов!
Он даже побледнел и задыхался от гнева.
– Не подпишусь! – отвечал я.
– Почему?
– По многим причинам.
– Слышите ли вы и понимаете ли вы, что я вам говорю? – захлебываясь от гнева, кричал частный. – Именем Императора приказываю тебе – подпишись!
– Воля Государя Императора для меня священна, – с твердостью отвечал я, – и за Веру, Царя и Отечество я не пощажу своей крови и даже самой жизни, а подписываться не стану, и вы сами от меня не в праве того требовать, тем более, что вы и следствие-то произвели без соблюдения законных формальностей…
– А в чем именно? А?
– Да вот, в записанных вами показаниях все листы без законной скрепы, а лист с подписями так и вовсе белый и к делу не подшитый: на нем можно написать выше подписей все, даже денежное заемное письмо. И что тогда? Обитель должна будет уплатить лишь потому, что вы заставили отца игумена и всю братию подписаться под листом чистой бумаги – так, что ли?…
Надо было видеть конфуз частного!.. Пришлось-таки ему забрать и переделать все вновь, а взволнованный игумен ушел в свою спальню, ворча во всеуслышание:
– Вот навязался на нашу шею мошенник! Анафемская душа! Погоди: я покажу тебе форму!
Дознание было переделано, как я хотел, и было в нем засвидетельствовано, что иеродиакон утонул от нетрезвого поведения.
Многих скорбей мне это стоило, но рапортом преосвященному было донесено, что умерший утонул в белой горячке.
Но владыка, получив такой рапорт, безмолвствовал, оставив в обители все по-старому. Нет – не по-старому оставалось у нас после того в монастыре, а еще хуже прежнего. Довольно будет сказать, что из Четьи-Миней начали вырывать целые листы для курения табаку, а монастырская власть уже ни на что более не обращала внимания. Правда, ездили к нам и благочинные, но их умели делать и глухими, и немыми. А были среди них и такие, которые возвышались даже до выговора игумену за то, что при выезде их из обители… не трезвонили в колокола!..
LXII
Какая же была причина тому, что так низко падала древняя обитель? Почему было так слабо игуменское управление? В ответе на второй вопрос заключен и ответ на первый.
Игумен наш всех боялся и старался не о порядке в обители, а только о том, чтобы кто-нибудь не составил на него прошения владыке и не завелось бы дело.
Мы видели, каковы они с казначеем: немудрено было, что они и не щадили никаких денег, лишь бы затушить всякую искру протеста против нестроения в управляемом ими монастыре.
Эта боязнь у них доходила до такого страха, так была всем известна, что некоторые из приказных, исчерпав все источники для выпивки, напишут, бывало, от себя прошение да и придут к игумену, говоря:
– Вот, батюшка, такой-то написал на вас (а иногда, для разнообразия, – на какого-нибудь брата) прошение.
И игумен осыпал их деньгами и запаивал водкой.
«Каков поп – таков и приход», – говорит мудрость народная: оттого и в нашем монастыре за правило было принято отказывать в поступлении в обитель каждому умному и трезвому человеку, зная наперед, что ему не ужиться с братией, большая часть которой состояла из исключенных семинаристов и вдовцов белого духовенства. Еще простеньких мужичков у нас принимали за безответность и как чернорабочую силу, и ими-то, по правде сказать, только и держался монастырь, отвлекая от него кару Божию. А что из себя представлял остальной состав братии, то его можно назвать истинной язвой того монашества, что держалось и могло держаться в монастырских стенах только одной дисциплиной – стаканами сивухи от монастырского начальства, щедро раздаваемыми рукой монастырского начальства, которое и само лишь этой дисциплиной держалось. И творилось это под видом доброты душевной, из жалости будто бы к павшему брату подносилась ему водка и давались деньги на табак. Действительная же цель была другая: начальству, редко бывавшему трезвым, требовалось окружать себя такими людьми, которые сами были бы перед ним в чем-нибудь замараны, а стало быть, и безгласны. Натворит каких-нибудь штук брат в пьяном виде, а его же еще и одобряют, поднося стаканчик:
– На, опохмелись! Ну, что делать: мы все немощны, все – под грехом!
Но такая система не приносила того плода, какой был бы желателен монастырскому начальству, и пасомые садились на шею своим пастырям, пользуясь их слабостью к тому же пороку: приходили к игумену и казначею в безобразно пьяном виде, требовали вина, денег и ругали их всячески. И все требования удовлетворялись безропотно, можно даже сказать, рабски. Общий порок ставил всех под круговую друг за друга ответственность и творил из них, хотя и безобразную, но тесно сплоченную и дружную семью, умевшую прятать концы в воду и крепко держаться друг за друга, скрывая от постороннего взгляда высшего начальства все, что творилось у них келейно. Наказаний в монастыре не было и в помине: за семь лет я не видал ни разу, чтобы кого-нибудь ставили на поклоны. Да и кому было ставить и кого ставить?
Живущие в монастыре радовались таким порядкам и называли игумена: «душа-человек». Но были и другие, те вместе со мной страдали и плакали. Слезы эти иногда становились известны игумену, но он мало ими смущался, отмахивался и говорил:
– Пускай их себе говорят, что хотят, а я, хоть лыком шит, да игумен. Они-то говорят, а я свое дело знаю!
Говорить ли о том, что за игумена вся Консистория стояла горой и всегда представляла о нем владыке, как о человеке редкой души, ни на кого еще не подававшем ни одного рапорта. Конечно, консисторские сами хорошо знали, что игумен этого и сделать никак не мог. Один из его приятелей, столоначальник Консистории, недаром советовал ему в минуту откровенности, как рассказывал мне сам игумен:
– Ты подбирай к себе дурачков, чтобы они ничего не понимали!
Можно себе представить, как я был мил игумену, когда приходил умолять со слезами – прекратить монастырское бесчинство!
Кто мог бы подумать, глядя на такое падение истинного монашеского духа, что в то время, как мы стремглав, вниз головою, летели в пропасть, рядом с нами, в семи верстах, росла и цвела Троекуровская Илларионовская женская обитель, а в двенадцати верстах те же женщины, истинные рабы Божии, за молитвами Сезеневского затворника Иоанна, воздвигали не обитель, а лавру?!..
Наш игумен не унывал и все ждал себе наперстного креста, хотя в обители начинали уже разваливаться стены. Мечты эти в нем взрастили и поддерживали члены Консистории, заставлявшие игумена на так называемое просвещение юношества вносить ежегодно четыреста рублей, а то и более. Но владыка почему-то все откладывал награждение, и тогда игумен впадал в уныние и сожалел о своей ошибке. Как-то раз в горести своей он и мне это высказывал.
– И что ж, батюшка, вы не постыдитесь его надеть? – спросил я.
– А что мне стыдиться? Ведь я числюсь попечителем богоугодных заведений.
– А я думал, что вы наперстного креста ждете за уничтожение благочиния в обители, – сказал я, чем привел игумена в каприз.
Я знаю, что меня многие не похвалят за мою дерзость, но им побыть бы на моем месте – жить, видеть и претерпеть всю горечь ненависти и бесчиния в управлении нашим монастырем, чтобы понять, каково было моему сердцу дожить до награждения нашего настоятеля долгожданным наперстным крестом и еще за что? За «примерное управление»!
Кому ведома ревность о Доме Господнем, тот поймет и не осудит меня.
Отче милостивый! Отпусти нам и буди милостив ко всем нам, грешным!
LXIII
Однажды, в праздник Богоявления, после поздней Литургии вся братия, по заведенному порядку, собралась в келью отца игумена «для утешения».
В обителях древних по уставу во дни поста, «прилунившуюся празднику», например, в Николин день шестого декабря, стало быть, Рождественским постом, давалось разрешение на «елей из освященного кадила» для «утешения» братии, то есть позволялось постную пишу готовить на лампадном масле.
Конечно, тогда и лампадное масло было не нынешнее, а беспримесное – оливковое, да и братия-то была тогда не наша, лебедянская.
У нашего отца игумена «утешение» было иное: сперва подавали чай, а потом приступали прямо к водке, которую казначей подносил аж квасными стаканами, не исключая из числа пьющих и малолетних.
Оговорюсь: я так старательно записываю в летописи моей жизни весь ужас нашего монастырского бесчиния для того, чтобы потомство знало, если до него дойдет моя рукопись, что за язва, что за чума для монашества и монастырей белое духовенство, которое, овдовев, принимает постриг по большей части из личных своекорыстных видов. У нас в монастыре это сословие было господствующим. Горе той обители, которая его принимает в число братства без предварительного продолжительного искуса! Чтобы решиться его допустить в монастырь, нужен искус гораздо более продолжительный и тяжкий, чем для простых мирян. Во всю мою продолжительную монашескую жизнь я как редкость великую видел кого-либо из монашествующего белого духовенства, кто, достигши начальствования, не привел бы к упадку вверенной ему обители.
Над столпом монашества – старчеством – эти люди смеются, отеческие книги с трудом разбирают, к послушанию не способны, жаждут «кружки», к трудам – последние, а на «поминах» – первые.
Конечно, были и будут и из них иноки высокой, подвижнической жизни и образцы монашеского смирения, но такие – исключение, которое лишь подтверждает общее правило…
Возвращаюсь к игуменскому «утешению». Когда начали пить чай, в другой комнате, где сидела младшая братия, ставили закуску на разных тарелках: икру, рыбу, селедку и прочее. Не успел келейник расставить все это и отойти, как послушники и монахи мгновенно бросились к закускам, давя друг друга, что-то запихивая в рот, что-то засовывая в карманы. Поднялся крик, шум, ругательства; закуску стали вырывать из рук друг у друга…
Не вытерпел я и шепотом сказал казначею:
– Удивляюсь, батюшка, вашему молчанию: почему бы вам не сказать двух-трех слов и прекратить подобное бесчинство? Ведь и у свиней, как пишет один святой отец, есть свой порядок, а тут – взгляните, что делается: ведь это – кабак!
Боже мой, что сделалось с казначеем! Он так толкнул от себя чашку с чаем, что весь чай разлился по столу и потек на пол. Как сумасшедший, вскочил он из-за стола, глаза его засверкали, как два угля, казначей побледнел и с пеной у рта, как бешеный, брызгая слюной, подскочил ко мне и закричал не своим голосом:
– Как ты смел мне это сказать? Кто ты? Что ты меня учишь? А! Что же это за диавол навязался на нашу шею!
С этими словами он выскочил в залу, где сидел отец игумен, и начал ему и всей старшей братии кричать, что я всех их ругаю бесчинниками, нарушителями отеческого благочестия…
– Вот он какой мошенник! – не унимался казначей, – вот он как отзовется о нас каждому встречному и поперечному! Что вы на него смотрите? А вы, отец игумен, дозволяете всякому мальчишке, щенку, у которого материнское молоко на губах не обсохло, говорить такие дерзости в глаза! И мало того, дозволили ему поселиться в саду; а ему не только в саду, и в обители не должно быть места. Напишите на него рапорт да и выпроводите вон из монастыря: пусть поживет в Сарове, или в Оптиной – там соблюдается для подобных благочиние на дровяном дворе!
Я дал ему излить всю накипевшую против меня злобу, вышел на середину залы и стал объяснять, что было в действительности, но казначей не давал мне говорить и все кричал:
– Какие мы бесчинники, мошенник ты этакий? У нас древнее благочестие. Погоди, брат, мы тебе хвост выщипем!
Насилу игумен уговорил его помолчать и дать мне высказаться. Я встал на колени среди залы и ко всем присутствующим обратился со слезной мольбой ради Христа, ради Богоматери, ради всех святых пресечь, наконец, силою предоставленной игумену власти, бесчинство если не во всем монастырском обиходе, то хотя бы в храме, в трапезе и в игуменских покоях. Я не плакал, я – рыдал, валяясь у них в ногах, но они все… безмолвствовали. Казначей бросался, было, меня ругать, но ему отец игумен приказал молчать, и он ушел в другую комнату, озираясь на меня, как зверь, грозя пальцем и приговаривая:
– Погоди, брат – мы у тебя хвост-то повыщипем: будешь знать, как учить старших!
На том дело и кончилось. Но спустя некоторое время, когда я шел с игуменского «утешения» в сад, казначей кликнул меня к себе в келью и, к удивлению моему, стал просить прошения:
– Прости, пожалуйста, и не серчай, что я тебя оскорбил. Это я ведь нарочно сделал, чтобы возвысить в других мнение о управлении нашем: надо же было услужить игумену. Что, брат, делать – человеки! Я и сам вижу, что хуже некуда; но ведь это не от меня. А ему хоть не говори, он-то и виной всему своевольству.
Ты правду говорил и правильно все заметил, но что же я-то буду делать, о Господи!.. Если бы ты, брат, знал, как я сам об этом в душе скорблю! Но что поделаешь, когда у нас игумен – колпак… Прости ж и не серчай!
– Бог вас простит, – отвечал я в полном недоумении от его речей, а казначей все твердил: