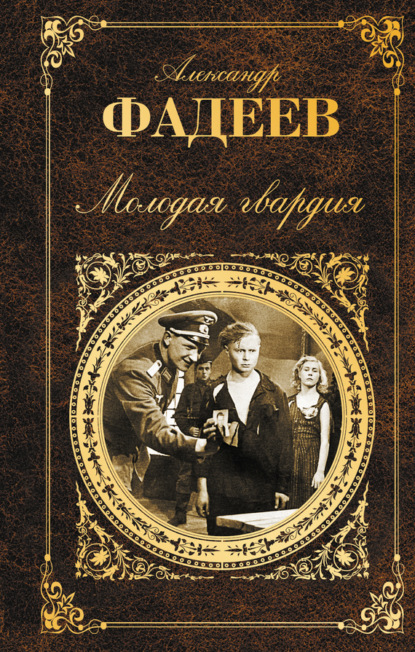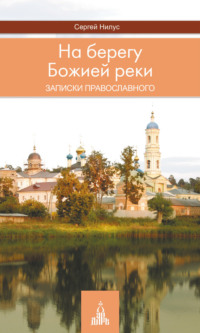полная версия
полная версияСила Божия и немощь человеческая
– Готовься!
И очень скоро после этого сновидения я был пострижен в мантию. Совершилось это великое событие моей жизни в день Одигитрии, июля двадцать восьмого дня 186… года[20]. После пострига отец игумен говорил мне, что он написал на трех записочках для меня три имени и положил их на престол. Два раза во время служения он брал с крестом одну из трех записок, и оба раза выходило для меня имя «Феодосий». В день моего пострига, когда нужно было идти постригать меня за малым входом, он взял с престола записку, и в третий раз вышло мне имя «Феодосий».
Вспомни, читатель, мою молитву у раки преподобного в Киеве и слова подошедшего ко мне неизвестного старичка-монаха и подивись со мною вместе великим и неисследимым путям Господним!
LVI
Однажды приехала к отцу игумену настоятельница новоустрояемой тогда Илларионовской Троекуровской общины, мать Макария[21], в то время очень ко мне благоволившая. Всякий раз, как она приезжала в наш монастырь к отцу игумену, она просила вызывать меня в настоятельскую келью. От нее игумен не только скрывал свое недоброжелательство ко мне, но старался показать, что обо мне имеет особое отеческое попечение.
Богу ведомо одному – может быть, в его-то душе и не было бы против меня дурного чувства, если бы не его слабость и склонность поддаваться чужим и враждебным влияниям. Да и то сказать – нельзя судить души человеческой, а тем более ее осуждать, когда знаешь по себе силу врага рода человеческого. Помни все время, пока читаешь мое повествование, дорогой мой читатель, что я – летописец, а не судья, и разумей, что, описывая монастырское нестроение, я не монастыри обвиняю, а человеческую немощь, поддающуюся диавольскому соблазну, когда ей так было бы легко, с помощью благодати Божией, отражать нападение невидимых врагов: стоило лишь строго держаться святоотеческих заветов и богомудрого старчества.
Смотри, как при тех же людях и с теми же их немощами, и при действии тех же враждебных сил цвела в то время да и теперь, благодарение Богу, процветает Оптина пустынь и другие высокие обители Российские, где введено и держится старчество. Где старец, которому всякий инок обязан открывать ежедневно свои помыслы, ради Христа, Которому он служит, и ради христианского совершенствования, вот тебе уже те Евангельские «двое», посреди которых Господь обещал невидимо присутствовать. Это уже – Церковь, которую и врата адовы не одолеют. Где же там безвозбранно действовать лукавому?… Не то в обителях, подобных Лебедянской, какой она была в мое время…
Но продолжаю рассказ.
Так вот, приехала мать Макария, по случаю ее приезда был позван к игумену и я.
Был тут и казначей. Попили мы чайку, посидели, побеседовали, а затем стали и прощаться. Поднялась мать Макария со своего места, чтобы собираться отъезжать домой, а я держал в руках ее легонькую, теплую беличью накидку из рясы блаженной памяти нашего с нею старца, иеросхимонаха Макария. Стоял тут и казначей и вдруг ни с того ни с сего, точно откуда-то сорвался, указывая рукой на меня, крикнул игумену:
– Видишь ли ты этого человека? Попомни мои слова: вот – дай срок – он нас с тобой так попрет из обители, что ты только ахнешь!
К чему и отчего он стал так предсказывать, но игумен от его слов сконфузился даже до краски в лице, а казначей, ни с кем не простившись, вышел из кельи и так хлопнул дверью, что стекла задрожали, а потом, вслед, полуотворил дверь и из-за нее опять выкрикнул:
– Погоди, он тебе послужит – попомни это! Он обоих нас выгонит из обители!
С тем и ушел. Мы с матушкой Макарией улыбнулись, а отец игумен только и нашелся, что сказать:
– Да, вишь, он немножко тово!
Мать Макария не утерпела и высказала отцу игумену все свое негодование на неблагопристойность этой выходки, а также и удивление, как может дойти в монастыре такое неуважение к настоятелю.
Мне же это, увы, было нисколько не удивительно!..
LVII
Стоял я однажды в своей келье на молитве перед иконой Распятия Спасителя и вдруг увидел, что губы Божественного Страдальца сделались огненными. Я пришел в такой ужас, что изнемог всем существом души моей, но молиться не мог.
Видение это по малом времени исчезло.
В моей уединенной келье, сперва секретно, а потом с благословения отца игумена, который временами благоволил ко мне, я выкопал под полом подземелье, как бы могилу, и поставил в него с одной стороны гроб, а с другой – гробовую крышку. Крышку гроба я сделал, еще когда жил в миру, конечно, тайно ото всякого постороннего взгляда.
Подземелье это было любимым местом для моей молитвы, и туда я часто уединялся молиться, становясь между гробом и его крышкой пред большим Распятием нашего Господа.
От юности моей и по настоящее время я имел и имею неодолимый для меня панический страх перед всякого рода гадами – змеями, ящерицами, червями. Где бы я ни был, в саду ли, в поле или в лесу, молился ли я или просто лежал на траве, меня всегда пугал помысел – нет ли здесь какой-нибудь гадины? Я и до сих пор избегаю попасть в густую траву, а для отдыха стараюсь выбрать чистенькое местечко.
В могиле под кельей неоткуда было взяться никакому гаду, однако я всякий раз, как туда спускался, испытывал некоторого рода боязнь… Несмотря на этот страх, любил я могильное безмолвие, где иногда целые ночи и дни проводил без сна или на молитве, или в размышлении о тайне нашего спасения и неисследимой вечности, ожидающей православно верующую душу.
Враг знал мою слабость и здесь не оставил меня в покое.
Молясь однажды в своей келье, я увидел около себя огромную, длинную, толстую змею. Я обомлел от ужаса. Подползла эта змея к дверце, ведущей в подземелье, и вдруг, на моих глазах, стала утончаться и, сделавшись тонкой, как пиявка, проползла в дверную щель и скрылась в подземелье. Долго я боялся спускаться на молитву ко гробу. Немного дней спустя кто-то, пока я спал, нагнул столбик из черных крашеных дощечек, на котором у меня были укреплены стенные часы, да нагнул так, что часы остановились.
Прошло после этого некоторое время, и я решился, наконец, опять спуститься на молитву в свое подземелье. Зажег я свечу, спустился ко гробу, тщательно осмотрел все закоулки подземелья и, убедившись, что, кроме меня, нет ни одного живого существа, я упокоился. Только успел я преклонить колени, как увидал, что по могиле пробежала большая ящерица, но не того цвета, какого они обыкновенно бывают, а цвета человеческого тела. На этот раз я не испугался и, оставив молитву, взял свечу и снова стал осматривать свое подземелье. Таких ящериц я обнаружил несколько штук, перебил их и выкинул. На другой день явление это повторилось, на третий – тоже, и вместо молитвы мне пришлось заниматься избиением ящериц, которых в подземелье собиралось всякий раз, как я туда спускался, так много, что, пока я всех переловлю, перебью и повыкидаю, некогда было уже и молиться. Дивился я, откуда они брались, когда муравью-то, и тому неоткуда было пролезть…
Так и пришлось мне на время оставить мое могильное безмолвие.
Спрашивал я садовника монастырского – он был из троекуровских крестьян, – доводилось ли ему в нашем саду встречать ящериц, он с уверенностью мне ответил:
– Никогда! А если бы были, то мог ли я, живя безвыходно лето-летское в саду, их не видеть?
Искушение это продолжалось до тех пор, пока я не написал о нем, прося молитв, старцу Амвросию Оптинскому. Более ящериц я не видел.
Прошло некоторое время. Я по-прежнему, уже безбоязненно, становился на молитву в своем подземелье, когда возникло новое искушение, которому не помогли и мои письма к отцу Амвросию. Говорил я о нем и лично, при свидании, великому старцу, но искушение это не только не прекращалось – напротив, усиливалось: слышались мне во время моей молитвы сперва тихие, невнятные голоса, а затем уж и ясное множество голосов, сладко ублажавших мои подвиги.
И я, грешный монах, оставлял молитву и целыми часами стоял, прислушиваясь к разговорам, услаждавшим тайную гордость и самомнение моей окаянной души.
Боже! Милостив буди мне грешному!..
LVIII
Один брат нередко мне прислуживал, особенно во время болезни (у меня пухли ноги и были болезненные шишки на коленях; левую ногу даже скорчило в суставах). Я утешал этого брата, чем мог, и за копеечные услуги платил рублями, зная его совершенную бедность. И было этому брату искушение добиться моего послушания у свечного ящика, которым я, по правде сказать, даже тяготился по своей болезни. Сговорившись с келейником отца игумена, который и послушание-то получил по моей просьбе, они вдвоем уверили слабого настоятеля, что я по ночам напиваюсь мертвецки пьяным. А я, не хвалясь, скажу, что с тех пор, как я переступил за ограду обители, не только вина, но и браги не дозволял себе подносить к устам моим даже за трапезой в день Пасхи.
Не зная ничего о составившемся против меня, по вражьему наущению, заговоре, я часу в двенадцатом ночи, помолясь Богу, лег спать. Не успел я закрыть глаз, как раздался стук в дверь кельи и вошел упомянутый келейник отца игумена, который объявил мне, чтобы я немедленно шел к настоятелю.
Конечно, клевета обнаружилась, но сам-то игумен был не в порядке, и мне пришлось, уж и не вспомню в который раз, выслушать от него, что я и мошенник, и интриган, добивающийся игуменского кресла, и бесполезный для обители человек… Кончилось ночное свидание тем, что настоятель отобрал у меня ключи от свечного ящика и, склонившись на мои уговоры, улегся спать.
Келейнику я дал понять, что мне известны его кляузы, но ушел я из настоятельской кельи с великой скорбью в сердце.
Наутро ключи от свечного ящика мне были возвращены.
Одна боголюбивая жена подарила мне флеру (род тонкой кисеи) на окна – для защиты в летнее время от насекомых. Одновременно я выпросил у отца игумена из церкви маленькое Евангелие и образ преподобного Сергия. То и другое послужило для врага поводом воздвигнуть на меня новую клевету. Один из наших иеромонахов был как-то раз у меня в келье и увидал на окнах рамки из флера, и сатана наполнил его сердце злобной завистью. Иеромонах этот иногда бывал у той боголюбивой госпожи, и при очередной с ней встрече на вопрос ее обо мне стал говорить про меня много дурного и, увлекшись, начал ей рассказывать, что я даже вор, потому что украл из церкви Евангелие, икону и флер, из которого поделал себе рамки на окна… Этот флер открыл всю ложь его наветов, и эта госпожа, встретив меня в церкви, предупредила, чтобы я сторонился иеромонаха, объяснив причину своего предупреждения. Имя этой моей благодетельницы – Любовь Степановна Федотова, супруга известного уже читателю Луки Алексеевича.
Из ряду вон выходящей была эта женщина по своему боголюбию! Муж ее некогда служил в Сибири начальником в том округе, куда ссылались политические преступники, особенно из Царства Польского. Были они с мужем люди богатые, имели единственную дочь, которую любили без памяти, и по окончании мужем службы в Сибири поселились всей семьей в Лебедяни, в прекрасном доме. Звали их в городе «сибиряками» и очень почитали за выдающиеся качества их редких сердец. Были они глубоко религиозные, к храму Божьему усердные, любили монастыри и монастырское богослужение, к которым неуклонно езжали по большим праздникам; подавали щедрую и всегда тайную милостыню, выдавали замуж бедных невест, давая им приданое – словом, жили, как истинные христиане.
К единственной их дочери присватался один из богатых местных помещиков, владевший деревней крестьян и богатой усадьбой на реке Дону.
Родители невесты ничего против этой свадьбы не имели, но неугодна она была дочери, совсем юной девице, тогда как жениху было около сорока пяти лет.
Неугодна была эта свадьба и Богу, и Он взял невесту к Себе, не допустив до бракосочетания с нелюбимым.
Смерть единственной дочери, умершей в семнадцатилетнем возрасте, тяжко поразила чету Федотовых, но не предались они бесплодному отчаянию, а только усилили свою богоугодную деятельность и свои усердные молитвы к Богу. Что касается Любови Степановны, то ее религиозность в это скорбное для нее время возросла до степени подвижничества и на этой высоте оставалась до самой ее кончины. Исполняя по долгу своего звания все семейные обязанности, она в корне изменила отношение к внешнему миру и в течение десяти лет со дня смерти дочери и до праведного своего конца не пропустила ни одного дня, чтобы не быть в храме. Приезжала она к нам в монастырь за час или за полчаса до утрени и ни разу не позволила себе постучаться в ворота обители, чтобы вратарь ее впустил обогреться в ожидании утрени. Даже при двадцатипяти- или тридцатиградусном морозе, отпустив своего кучера домой, стояла она на снегу, прижавшись к калитке и дожидаясь, когда вратарь отопрет ворота или калитку.
Нередко случалось, что и вратарь, и игумен, и братия просыпали, и она, трясясь от жестокой стужи, все так же безропотно и безмолвно дожидалась, пока наконец-то откроют ворота те, кому надлежало ведать. О жизни ее, подвигах, благодеяниях нищим, убогим, сирым, вдовицам, церквам и монашествующим знает один только Сердцеведец Господь, я лишь могу свидетельствовать, что это была великая христианка, редкая из жен, которая, при всем достатке, довольстве и даже изобилии благ земных, не пользовалась решительно ничем и вела жизнь строгой и притом тайной постницы и неподражаемой подвижницы. По секрету рассказывали мне мать ее, Александра Петровна Антонова, и муж, Лука Алексеевич, что у нее от коленопреклоненной молитвы на обоих коленях были шишки величиной в кулак, которые обращались по временам в злые нарывы и раны.
В обращении своем с людьми Любовь Степановна была совсем как Ангел – с неизменной и кроткой улыбкой на устах, не умевших произнести ни единой жалобы. Глубоко начитанная в Слове Божием, она ум имела светлый и просвещенный Богопознанием – словом, когда мне приходилось слышать, как мужа своего она называла господином, то представлялась мне она, озаренная как бы сиянием своей святости, одной из дивных библейских жен, которым приучено было сердце поклоняться от самых юных лет. Это была воистину жена святая.
И этому-то ангелу сатана хотел меня опорочить и лишить меня доверия и непрестанной заботливости о моем духовном сиротстве среди враждебно ко мне настроенного большинства монастырского братства!
Благодарение Господу, неудавшаяся клевета до того расположила Федотовых в мою пользу, что с того времени я стал для них своим в их доме и сердце и был назначен душеприказчиком по духовному завещанию на их имение. Это так возвысило меня в глазах лебедянских граждан, что впоследствии, когда я стал иеромонахом, меня звали в Лебедянь еженедельно для совершения Божественной Литургии и для произнесения проповедей.
Иеромонах, меня оклеветавший, едва не заболел от зависти и взвел на меня игумену новую клевету, что будто я нарушаю его безмолвие, стуча ему по ночам в окна, а днем – в двери из желания чем бы то ни было ему досадить. Взведя на меня эту клевету, он сам ей настолько поверил, что просил себе перевода в другую келью, так как его келья была близ моей садовой калитки и окнами выходила в сад, где было мое уединение. Просьбу его уважили, а мне было через то много неприятностей.
Впоследствии этот иеромонах, утратив всякое значение в лебедянском обществе, чтобы вновь привлечь к себе расположение и внимание, обращался к владыке Тамбовскому Феофану с просьбой, чтобы его постригли в схиму, но на этот раз наш отец игумен его понял и владыка Феофан[22], сделав запрос просителю о том, «как он понимает схиме и как желает жить в схиме», прошения, по-видимому, не удовлетворил, потому что ненавистник мой и поднесь пребывает иеромонахом.
LIX
Однажды в день Рождества Христова, придя к себе в келью от ранней обедни с приглашенным мною странником – монахом одного из московских монастырей, я заметил, что пробой был из двери выдернут, замок сломан, а вошедши в келью, застал в ней полный разгром всего моего достояния: кроме икон и книг, ничего воры не оставили, забравши всю теплую и холодную одежду, белье, самовар, чашки, сахарницу и, сколько было про нуждишку, деньжонок – все забрали до нитки. Оставлены были худенькие старые подштанники, да и те были, назло, вывернуты и брошены посреди кельи. На другой день одну мухояровую ряску и старый поношенного крепа клобук подкинули в мешочке, в котором мне обычно кое-что присылали благодетели мои, Федотовы. Подкинутое обнаружилось на гостином дворе к келье одного из братии, живописца, он и принес все это в трапезную во время обеда. Остальное мое имущество пропало без вести.
Дня через два призвал меня к себе один иеродиакон. Я застал у него в гостях мирянина, и они оба сообщили, что прошел слух о похищенном у меня имуществе, и советовали подать в суд. Я ответил, что судиться – не монашеское дело, а вот было бы лучше, если бы вор возвратил мое имущество, тогда бы я ему уплатил по стоимости за похищенное и поклялся бы никому никогда не открывать его имени. Конечно, можно удивляться моей наивности, воображавшей, что вор стал бы верить обещаниям, но тогда я говорил от сердца.
И остался я при двадцатипятиградусных морозах в одном холодном худеньком подрясничке, и никто из братии, начиная с игумена, не догадался мне предложить ничего теплого. Можно себе представить, как проводил я в своей холодной келье зимние морозные ночи, не имея чем прикрыть продрогшего тела, пока не обзавелся кое-каким теплым одеянием! Согревала меня молитва Иисусова да земные поклоны, которые и клал я усердно, едва перемогаясь от холода до утрени. И как же бывал я рад тогда услышать к ней благовест! В храме было много теплее, чем в моей келье, и я бежал туда, дрожа весь, как в лихорадке.
В мае месяце, в наступившем, стало быть, новом году после тех рождественских праздников, когда у меня была совершена первая покража, пришел я от ранней Литургии в свою келью и застал полное повторение того, что было на Рождестве: замок сорван и все, кроме книг и икон, разворовано до нитки. Было у меня подозрение на одного брата, но он не допустил меня до осмотра своей кельи. Я не стал настаивать, а спустя некоторое время с одним братом, жившим в гостинице, нашли мы в саду, в траве, – один тулупчик да три-четыре грязных рубахи.
Совершив руками подвластных ему людей две кражи, враг диавол вновь стал ополчать против меня отца игумена, и начал тот наново преследовать меня. Где тайно, а где явно – угрозами и лаской принялся он восстанавливать против меня ту часть братии, которая была расположена ко мне: опять повторялась, по наговорам казначея, старая история с запрещением бывать у меня кому бы то ни было. Боялись игумен с казначеем, видимо, чтобы я не составил против них братской жалобы высшей власти. Дело дошло до того, что стали запирать сад, а если и отпирали, то в открытую следили и за мной, и за теми, кто входил в сад.
Стоило кому-нибудь подойти к моей келье, как, точно из земли, вырастал игумен и спрашивал:
– О чем собрались толковать? – а затем усаживался возле моей кельи и сидел до тех пор, пока иноки сами уйдут, или он скажет:
– Пойдемте-ка! А то велю скоро запирать.
Бывало, на вопрос игумена: «Куда идешь?» – иной брат ответит:
– К отцу Феодосию чаишку напиться…
– Ай у тебя нет? – спросит игумен.
– Есть-то есть, – ответит брат, – да хочется с ним побеседовать, или там – книг отеческих вместе почитать.
– Ну, – возразит игумен, – зачем к нему ходить? Иди ко мне: ты у меня давно чаю не пил.
И волей-неволей приходилось повиноваться брату. А уж в игуменской келье заводились знакомые речи:
– Ведь вы его не знаете: он не только мошенник, а из мошенников-то мошенник… – и так дальше.
Брат молчал и слушал, а затем со слезами иногда на глазах говорил мне:
– Господи! Да за что они вас так ненавидят?… Терпи, родимый наш, пожалуйста, не скорби!
Причина ненависти была прежняя: всякий раз, как усиливалась в монастыре, по вине игумена и казначея, распущенность, я шел к игумену и с глазу на глаз, на коленях и со слезами, целуя его руки, умолял его прекратить бесчинство, которое лезло даже в храм, не щадя великой службы Божественной Литургии.
Про трапезную и говорить нечего: там не только братия, но даже десятилетние мальчики, родственники некоторых иеромонахов, вынуждались пить сивуху квасными стаканами, особенно в день чьих-либо поминок. Но все мои просьбы оставались гласом, вопиющим в пустыне. Когда же в монастыре узнали, что благодетели мои, Лука Алексеевич и его жена, сделали меня своим душеприказчиком по завещанному для нашего монастыря имуществу, то отец игумен стал окончательно гнать меня из монастыря. Сперва принялся он за меня вроде бы советом, говоря:
– Ты видишь, какая здесь братия: иди, пожалуйста, от нас в какую-нибудь пустынь да там и спасайся.
Потом заговорил со мною уже в форме приказания, чтобы я непременно подал прошение на перемещение меня в Оптину пустынь или в иную обитель:
– Я и братия не желаем, чтобы ты жил в нашей обители, – с гневом говорил мне игумен, – ты не способен, а твой характер невыносимо тяжел для нас.
Я знал, что братия тут ни при чем, а моего удаления хотят только он с казначеем, и потому объявил, что из обители без особой причины не уйду. Вне себя от гнева игумен закричал:
– Сказываю тебе: иди, куда хочешь – ты здесь не нужен!
Я ушел, не взвидев света от горьких слез, и, придя в свою келью, по малодушию своему, стал просить себе у Господа смерти.
Обессилев от молитвы и слез, я заснул и увидел во сне, что будто я стою на молитве и вдруг вижу, что вся моя келья наполнилась сонмом поющих дивную песнь: «Побеждаются естества уставы в Тебе, Дева Чистая. Действует бо рождество и живот предобручает смерть. По рождестве Дева и по смерти жива спасаеши присно, Богородице, наследие Твое…» И как же это пелось! – того ни пересказать, ни передать человеческим голосом невозможно. Кончилось пение, и видение скрылось, а я проснулся в слезах… И долго-долго звучала в ушах гармоническая мелодия этого сладкого, чудного пения.
С этого дня я положил себе за правило, отходя ко сну, петь до трех раз слышанные во сне слова, стараясь подражать их небесной гармонии.
В тот же день, выйдя из своей кельи, я встретил отца игумена, гуляющего по саду. Увидев меня, он подошел и поклонился мне в ноги, прося прошения за случившееся:
– Живи, молись и за меня! Мало ли чего не бывает… А ты не серчай: горшок с горшком и то сталкиваются, а мы – живые люди. Это все казначей меня смущает.
LX
На время в моей жизни водворилось некоторое успокоение. Но беды, вернее сказать, бесы, отступив посрамленными на одном фланге, повели наступление с другого.
Был в саду монастырском, позади игуменского корпуса, небольшой пруд, и в нем водились караси. Я испросил у отца игумена благословение поохотиться, когда вздумается, на карасей с удочкой, а из пойманных карасей варить себе уху…
Сижу как-то с удочкой на берегу пруда, а позади меня – отхожее место настоятельского корпуса. Вдруг слышу, что со второго этажа корпуса что-то шлепается прямо в выгребную яму. По малом времени опять слышу: шлеп, шлеп, шлеп!.. Меня это заинтересовало. Оставил я на берегу свою удочку, а сам тихонько подошел к выгребной яме и увидал, что на поверхности торчат непотонувшие пучки восковых свечей. Я догадался, что кто-то из игуменских келейных ворует свечи из чулана. Отца игумена в это время дома не было – он отъезжал на монастырский хутор, верст за пятнадцать от монастыря.
На другое утро сижу на крылечке кельи и кормлю своего ворона… Да, я и забыл в своих воспоминаниях про своего друга-приятеля, не один год разделявшего со мною одиночество, а он стоит того, чтобы и ему уделить местечко в летописи моей жизни. Прерву-ка я свой рассказ да поведаю кое-что и о моем пернатом друге.
Когда я еще служил в Лебедяни подвальным и жил в доме Неронова неподалеку от питейной конторы, я не раз просил своего домохозяина, чтобы он мне достал хотя бы за деньги молодого вороненка. Хозяин пообещал достать из гнезда, которое было в строении спальни, но обещания своего не мог исполнить, так как воронята уже слетели с гнезда.
Очень тогда это было досадно, а делать нечего – приходилось ждать следующего лета. Сидел как-то хозяин с женой у себя на крыльце и пил чай, а в это время через двор летели старый ворон со своей самкой и молодыми воронятами.
Хозяин возьми да и скажи:
– Вот бы упасть одному вороненку для нашего постояльца!
И при этих словах один вороненок взял да и упал на землю, неподалеку от хозяйского крыльца, и тут же был пойман хозяином. Когда я взял вороненка из его рук, то вся воронья стая долго летала и кружилась надо мною, пока я не унес его домой. Вскоре вороненок так привык ко мне, что летал за мною всюду, куда бы я ни ходил: пойду в подвал, он летит за мною, не боясь залетать даже и в подвальное помещение; а уж в дом – и говорить нечего – он влетал, как в свое собственное гнездо, и брал пищу прямо из моих рук. Иногда, плотно покушавши, он улетал на волю, но неизменно возвращался домой на ночлег. Удивительно мне было, когда, бывало, дашь ему несколько кусков сырой говядины, а он возьмет их и спрячет где-нибудь на дворе; а там, смотришь, – прилетает к нему старая пара его родителей, а вороненок разыщет спрятанные куски мяса, поднимется с ними на крышу и угощает родителей. Любо было смотреть на это проявление в птице детской любви, и как было мне стыдно и больно за детей человеческих, не разумеющих того, что доступно даже и птичьему разумению!