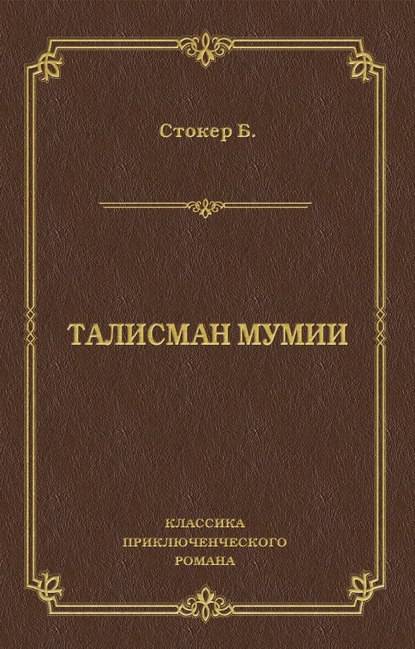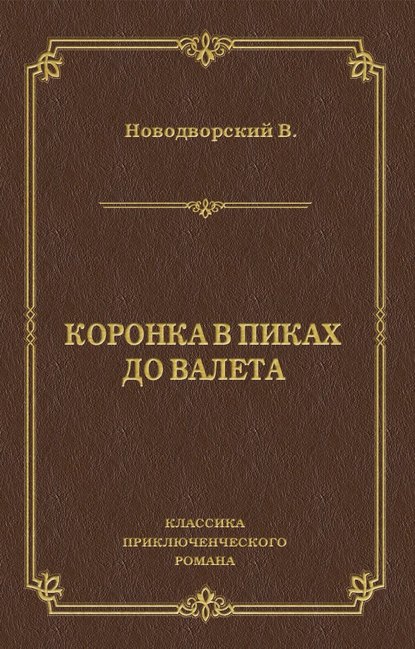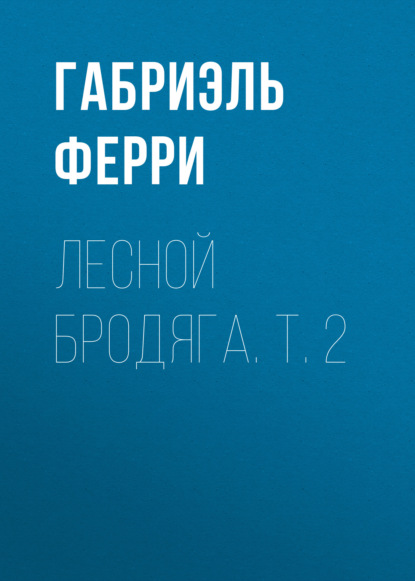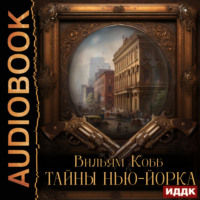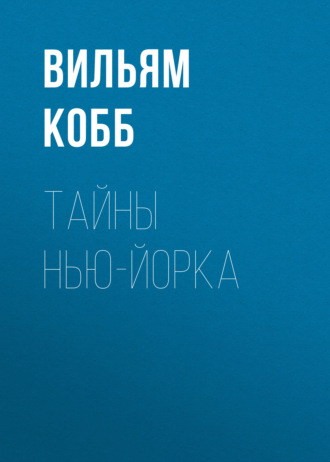 полная версия
полная версияТайны Нью-Йорка
Он насмешливо улыбался, произнося это слово, столь непривычное для его губ.
– …В любви вашей силу убедить своего любовника принять мое предложение…
– Нет, нет! – шептала Антония.
В это время послышался звонок. Антония вздрогнула. Бартон прислушивался… шаги приближались… Затем лакей постучал в дверь и доложил:
– Мистер Эдвард Лонгсворд!
– Когда вы переговорите между собой, – сказал Бартон, – то будьте столь добры известить меня… Я к вашим услугам в соседней комнате…
Антония, упав на диван, дрожала от ужаса.
– До свидания! – добавил Бартон.
И он вышел, закрыв за собой дверь.
Эдвард вошел.
Он наклонился к белым исхудалым рукам любимой женщины и, целуя ее пальцы, горько плакал. Его губы могли произнести только одно слово:
– Антония! Антония!
Но это слово, двадцать раз повторенное, выражало все оттенки страдания. Потом он заговорил:
– Прости, прости меня! Зачем я погубил тебя? Зачем нарушил спокойствие твоей жизни? Бедная, любимая моя, ты должна ненавидеть меня, потому что это я погубил тебя! Прокляни, прогони меня…
Она же, пробуждаясь от этого голоса любви, счастливо улыбалась.
– Я люблю тебя! – тихо, но твердо произнесла она.
Они снова замолчали.
Вдруг Антония вздрогнула и приложила руку к сердцу.
Лонгсворд выпрямился. Он тоже вспомнил… Завеса, скрывшая на несколько мгновений ужас их положения, упала. Если бы их было только двое, они приняли бы любые муки за этот миг счастья… Но маленькое существо, требовавшее своих прав на жизнь, – разве можно было его забыть? Разве оно не было осуждено?
Лицо Эдварда покрылось смертельной бледностью. Идя сюда, он принял решение…
– Послушай, – сказал он Антонии, – у нас мало времени…
Антония кивнула.
– Ответь мне… Считаешь ли ты своего мужа способным исполнить то, чем он угрожал?
– Да, – твердо сказала Антония.
– Ты полагаешь, что он может убить тебя?.. Убить нашего ребенка?..
– Да, – повторила Антония.
– В таком случае, – сказал Лонгсворд, – ни жизнь, ни совесть больше не принадлежат мне. Все в мире имеет свою цену. Цена твоей жизни и жизни ребенка неизмеримо выше, чем…
Антония зажала ему рот ладонью.
– Нет, нет, нет!.. Подумай, разве ребенок наш мог бы жить… если бы его жизнь была куплена такой варварской ценой? Да я боялась бы, что каждый мой поцелуй отравлен… Может ли он войти в жизнь с такой тяжелой ношей?.. Подумай, там… ведь тоже много матерей, много детей!..
Она упала к ногам Лонгсворда и, схватив его за руки, шептала:
– Как я хотела бы с гордостью называть твое имя нашему ребенку, как бы я хотела… Но произносить имя бесчеловечного убийцы… Нет, Эдвард, нет…
– Спасибо, моя родная, – проговорил Лонгсворд, – спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты такая… Ты спасла меня. Теперь я найду способ спасти всех нас. Ты вдохнула в меня силу, которой мне так не хватало! Я буду достойным тебя!
Они слились в последнем поцелуе, в последнем объятии…
Лонгсворд выбежал из комнаты.
– Я осуждена, – шептала Антония, – но я спасла всех нас…
Глава 7
Старые друзья
В редакции газеты «Девятихвостая кошка» сидят два благообразных джентльмена.
Очень трудно, почти невозможно было бы узнать в них Трипа и Мопа из «Старого флага»!
Моп – ныне Франциск Диксон, из Коннектикута, – выглядит как преуспевающий торговец, румяный, полный, лоснящийся.
А полковник Гаррисон уже никак не напоминает зеленовато-серого Трипа. Он прекрасно одет, у него здоровый матовый цвет лица.
– Ну-ка прочти еще раз, – говорит Трип.
– Зачем? И так все ясно, – хмурится Моп.
– Прочти… Я хочу понять.
Моп, вздыхая, читает письмо:
– «Дорогие друзья! Обстоятельства изменились. «Кошки» больше нет. Впрочем, не беспокойтесь, я вас не забываю. Сегодня вечером, в девять часов, я приду. Нам нужно переговорить о многом. Прилагаю при сем чек на сто долларов. Г. Б.».
Оба тяжело вздохнули.
– Не знаю как ты, Моп, а я не могу жить без «Кошки».
– Я тоже, – вздохнул Моп.
– Мы найдем кое-что получше, – произнес с порога Бам.
Он окончательно превратился в Гуго Барнета, элегантного джентльмена, делового, сухого, сосредоточенного. Трип и Моп застыли в почтительных позах.
– О чем это, черт возьми, вы говорили, когда я вошел? – весело произнес Бам. – Я слышал ропот недовольства.
– Что поделать? – сказал Моп. – Мы вошли во вкус нашей профессии…
– Ну и что? – сказал Бам. – Берите пример с меня! Вы уже видели, сколько разных профессий я испробовал. Ну а теперь осваиваю еще две…
– О! Какие же?
– Первая – это женитьба…
– Женитьба! – вздохнул Моп. – Женитьба! Какой ужас…
– Но, друг мой, дорогой мой Бам, – воскликнул Трип, – позволь старому товарищу, который любит как отец… я повторяю… как отец, – позволь мне сказать тебе, что это просто глупость… Ты погибнешь… ты похоронишь себя! Нам остается лишь оплакивать тебя… Ах, если есть еще время, то мои бескорыстные советы…
– Теперь поздно, – перебил, смеясь, Бам, – я уже три дня как женат.
Восклицание «о!», заключавшее в себе все оттенки отчаяния, вырвалось из груди компаньонов.
– Погодите предаваться отчаянию! Я еще не сказал ничего о второй профессии!
– Он прав, – сказал Моп, – если у него есть вторая профессия, она искупает недостатки первой…
– Я уверен в этом, – сказал Бам, – я банкир!
Второй взрыв изумления издателей «Кошки».
– Банкир… как мы – журналисты?
– Ну и что? Разве вы не были журналистами с газетой?
– Так ты банкир с банком?
– Да, именно, с банком, дорогой мой Трип!
– Банк! Банк! – возразил недоверчиво Моп. – Это как кто понимает это слово! Много людей считают себя банкирами, имея большую квартиру на первом этаже, несколько лакированных столов, железную решетку и пустую кассу!
– Я предоставлю вам самим судить о подлинности моего банкирского дома.
– Ну, говори! – произнесли оба друга, облокотившись на стол, чтоб лучше слышать.
– Так вот, недоверчивые друзья мои, полагаю, что я могу называться и женатым, и банкиром, если жена моя – дочь Арнольда Меси, первого банкира Нью-Йорка!
Третий взрыв изумления нет никакой возможности передать словами. Это нужно было видеть!
– Так, – продолжал Бам, – а теперь поговорим о деле…
– Бам, – торжественно произнес Трип, – у нас есть тела и, вероятно, души. Все это принадлежит тебе!
– Прежде всего я хочу знать, дорогие товарищи, не утратили ли вы добрых традиций старого времени?..
– Это значит…
– Это значит, что теперь мне нужны не журналисты, а прежде Трип и Моп, такие, какими они были в доброе время «Старого флага»… готовые на все, презирающие виселицу…
– О-о!
В этом «о!» уже не звучал восторг.
– Я объясню, – продолжал Бам-Барнет, как будто не замечая их беспокойства. – У нас много текущих операций, и мне нужны крепкие головы и здоровые руки. Я не хочу думать, что напрасно рассчитывал на вас, и, признаюсь, с величайшим сожалением пришел бы к выводу о необходимости искать других союзников…
Эта фраза произвела свое обычное действие. Трип и Моп не допускали возможности быть отставленными.
– Конечно, это очень сложно, – сказал Трип, громко вздыхая. – Но что делать? Мы исполним все, что ты прикажешь…
– Итак, к делу, – бросил Бам. – На карту поставлено очень многое. Этому соответствует и плата за труды. Вы можете довольно быстро нажить целое состояние. Вам нравится подобная перспектива?
– Очень даже нравится, – сразу ответили оба друга.
– Отлично! Завтра в девять часов вечера вы должны стоять с закрытой каретой около Принтинг-сквер. Трип будет кучером, Моп исполнит обязанности лакея. Я буду там и скажу, что делать. Это еще не все…
– Будет исполнено!
– Хорошо. Еще вот что: мне скоро понадобится несколько храбрецов для весьма щекотливой экспедиции довольно далеко от Нью-Йорка. Найдите среди ваших знакомых несколько здоровяков… человек двенадцать… и прикажите им быть готовыми к отъезду по первому знаку…
– Хорошо, – сказал Моп. – Лучше всех с этим справился бы наш друг Кломп.
– Какой это Кломп?
– О! Великолепный работник… человек, который еще никогда не отступал…
– Будьте осторожны и доверяйтесь только верным и преданным людям. Что же касается денег, то в них недостатка не будет.
– Более никаких приказаний? – спросил Моп.
Бам секунду помолчал.
– Нет, это все, – произнес он. – Итак, я могу на вас рассчитывать?
– Как на самого себя…
– Отлично. Вы свободны. Деньги у вас есть, делайте что хотите… и не забудьте: завтра в девять вечера у Принтинг-сквер…
– Решено.
Трое соучастников пожали друг другу руки, и Бам ушел.
Оставшись одни, Трип и Моп с минуту смотрели друг на друга.
– Мы еще поговорим об этом, – сказал Трип. – У меня созрело несколько мыслей…
– И у меня тоже, – кивнул Моп.
Глава 8
Эффективные средства Кломпа
Читатель помнит тот ужасный дом, который посетили Дан Йорк и Лонгсворд в ту страшную ночь, когда Кломп привел туда с улицы двух бездомных юношей…
В этот вечер Дик по знаку Кломпа поднялся на верхний этаж. Дойдя до низенькой двери под самой кровлей, они оба остановились и прислушались.
– Овечки не шевелятся, – сказал Кломп, – я думаю, что они успокоились…
– Ну еще бы! Ведь ты применил такие эффективные средства.
Кломп открыл дверь.
Сырой воздух с легким запахом плесени пахнул ему в лицо.
Трудно представить себе, какое ужасное впечатление производил вид этого обширного чердака. Свет сюда не проникал, атмосфера была смрадной и пронзительно сырой. Все пространство было завалено грудами тряпок – наследием двадцати поколений. Тут складывались лохмотья умиравших внизу или тех, которые, не имея возможности заплатить, оставляли этот хлам в виде залога.
Навстречу вошедшим в одном из углов медленно привстали два существа.
Кто бы узнал в этих двух бледных, исхудалых тенях тех свежих юношей, которых из мнимого милосердия подобрал Кломп?
А между тем это были действительно Майкл и Джимми, но они так изменились, что утратили человеческий облик.
Какие же это были эффективные средства, примененные Кломпом и вызвавшие такое одобрение Дика?
Когда Майкл и Джимми после попытки побега из «Садов Армиды», были схвачены своим преследователем, то Майкл, как помнит читатель, был ранен. Пуля только слегка задела череп, вызвав обильное кровотечение и обморок. Впрочем, разбойники набросились на несчастных с такой яростью, что когда они возвратились в «Золотую пещеру», то тела их представляли одну сплошную рану. Их рвали ногтями, кусали, били кулаками, рукоятками ножей… Окровавленных, похожих на трупы, бросили их на чердак, ставший их тюрьмой… Кломп был в таком бешенстве, что хотел убить их… Дик насилу удержал его…
Тогда Кломп потребовал, по крайней мере, разрешения бить их до тех пор, пока его рука не устанет. Дик не нашел что возразить на это. Добрая душа! И Кломп, обезумев от ярости, в течение целого часа истязал плеткой бессильно обмякшие тела…
Когда они тихо попросили воды, Кломп злобно засмеялся и приставил к их ртам горлышки бутылок с водкой…
Ему пришел на ум эффективный способ победить их сопротивление, а именно – пьянство. И с того времени вся пища юношей была постоянно насыщена спиртом: пить им давали только те подкрашенные напитки, от которых горит горло и разрывается грудь.
Как они не умерли, непонятно… Зато мозг их как-то привык к одурению. Они перестали сознавать, понимать, чувствовать и только инстинктивно ощущали, что их охватил какой-то ошеломляющий вихрь и вертел посреди огненной атмосферы.
Что должно было случиться, то и случилось. Они попросили пощады. Кломп предписал им условия. Они должны были стать его рабами, смотреть его глазами, действовать лишь по его приказаниям. Рассказывают, что в Средние века на бесовских сборищах колченогое существо требовало от своих учеников отречения от их Бога. Точно так же Кломп пытками вынудил их отречься от честности, добродетели, чести. Он требовал, чтоб они произносили самые гнусные ругательства… и они повиновались, несчастные, чтоб получить кусок хлеба или несколько капель свежей воды.
Увидев Кломпа и Дика, они начали смеяться.
– Ах, это вы, Кломп! Черт возьми, давно пора нас вытащить отсюда.
– Мы не зарабатываем себе хлеба, а едим! – сказал, смеясь, Джимми.
– Ну-ну, овечки мои, немного потерпите, – ответил Кломп. – Так мы торопимся взяться за работу?
– Еще бы! – бросил Джимми. – Неужели вы думаете, что нам тут весело?
– Да кто ж виноват? Зачем же вы были так неласковы с папашей Кломпом? Если бы вы не вздумали тогда улепетнуть, то давно бы уж катались как сыр в масле!
– Мы виноваты.
– Вы сознаетесь? Ну, хорошо! И так как вы теперь очень миленькие, то я хочу сделать что-нибудь для вас.
– Ага! – воскликнули оба брата с искренней радостью.
– У вас слюнки потекли, не правда ли? А то ли будет, когда узнаете, в чем дело!.. Отличное, доложу я вам, дельце! Такого не встретить дважды в жизни… и оно даст вам золотые доллары в ручки… Ну, вот и говорите тогда, что папаша Кломп не добрый малый…
– А когда же это будет? – спросил Джимми.
– Через три или четыре дня… Вам понадобится быть ловкими и легкими на руку… но я спокоен на этот счет…
– А до тех пор?
– До тех пор… если вы будете очень, очень послушны, если вы обещаете не делать глупостей… ну, тогда я приглашу вас поужинать…
– Мы не откажемся…
– Там будут еще люди… Держите себя хорошо, потому что, откровенно говоря, я поинтересуюсь их мнением на ваш счет, и если оно будет плохим – все отменяется!
Час спустя Майкл и Джимми сидели уже в другом помещении в компании мошенников, которые пили, ели, пели непристойные песни, рассказывали циничные анекдоты. Братья пели с ними хором и, точно по вдохновению зла, находили остроумные ответы, смешившие до слез этих беглых каторжников.
Майкл и Джимми оказались достойными своего учителя.
Кломп самодовольно улыбался…
Глава 9
Между жизнью и смертью
Тревожно и темно в комнате Антонии Бартон. Бледная женщина лежит в постели и почти не воспринимает происходящего вокруг нее. Она ждет расплаты. Лонгсворд сдержал слово. Он отказал Бартону в своем содействии. Теперь слово за Бартоном.
Антония закрывает глаза, и из-под ее длинных ресниц текут горькие слезы. Она чувствует, содрогаясь от ужаса, как ребенок шевелится у нее под сердцем…
Неожиданно дверь распахивается.
Бартон мерным шагом подходит к этому ложу страданий.
– Сударыня, – говорит он своим холодным тоном, – я решил, что событие не должно произойти здесь. Карета ждет у подъезда. Вас отвезут в дом, принадлежащий одному из моих друзей. Будьте уверены, что там уход за вами будет отличный…
Антония поняла, что страшная минута наступила… Она поднимает на него полные слез глаза.
– Скажите, – говорит она тихо, – что вы решили?
Он криво усмехается:
– Вы ведь скоро будете готовы, не так ли?
Тогда она встает, бледная и такая слабая, что едва может держаться на ногах, так они трясутся. Она чувствует себя во власти этого человека и лелеет слабую надежду на то, что он оценит ее покорность. Она быстро собрала необходимые вещи и тихо сказала:
– Я готова.
Бартон идет впереди. Он не предлагает ей руки, и нет ни одного лакея, чтоб поддержать ее, так что она хватается то за мебель, то за стены, чтоб не упасть. Муж ничего не видит и не хочет видеть. Что ему за дело, что она страдает, едва волочит ноги? Разве он не ощущает злобной радости, видя эти страдания? Они ведь часть его мщения… Взглянув на него, можно было подумать, что это палач идет перед осужденным на смерть и не поворачивается даже назад, вполне уверенный, что за ним следуют совершенно покорно.
Слуги отсутствуют. Бартон сам отворяет ей дверь. Ночь… Антония выходит на улицу. Здесь стоит человек, одетый во все черное. Она не может различить его лицо в темноте. Он предлагает ей руку. Она качает головой, а затем оборачивается в последний раз, чтоб взглянуть на дом, который покидает, может быть, навсегда; этот дом, в который она вошла беззаботной и почти радостной и из которого теперь выходит в отчаянии и ужасе… Может быть, она хотела еще раз обратиться к своему судье с мольбой о пощаде, но тяжелая дверь закрылась… Антония одна с незнакомцем. Минутой позже она сидит в карете. Незнакомец сидит напротив и молчит…
Щелкает кнут. Карета трогается.
Антония не произносит ни слова.
А с кем, впрочем, говорить?.. Кто он такой?.. Кто же иной мог согласиться послужить орудием преступления, как не один из таких же негодяев, как Бартон?
А Лонгсворд? Где Лонгсворд? Почему его нет здесь? Жив ли он? Неужели мщение Бартона уже исполнено?
Карета катится все быстрее и быстрее. И при монотонном стуке колес Антония чувствует, что мозг ее тяжелеет. Становится темно в глазах, но огромным усилием воли она сопротивляется подступающему обмороку.
Но вот карета останавливается. Дверца открывается. Холодный воздух пахнул в лицо. Где же она? Она слышит журчание. Это что-то похожее и на песню, и на стон. Это вода…
Карета остановилась на берегу, около самой пристани. Антония видит пароход в нескольких шагах…
Послушная своему провожатому, она идет по трапу. Вот она на палубе… Открывается каюта, и едва успела закрыться за ней дверь, как послышался свисток, скрип винта, потом шипение пара. Черный дым взвился клубами, и пароход понесся по волнам.
Антония до того ослабела, что уже не боялась, она даже спрашивала себя, не жертва ли она одного из тех страшных кошмаров, когда чувствуешь, что летишь в пропасть… И Антония боролась с этим кошмаром, пытаясь пробудиться.
Но нет, это был не сон. Она бодрствовала, потому что слышала, как свистел ветер, как волны бились о борт парохода, как работала машина; но она не сознавала только течения времени. Минуты ли это проходили или часы? Она не знала…
А когда пароход остановился, кто-то открыл каюту и тихо сказал: «Пожалуйте, миссис!» Затем человек, весь в черном, лицо которого она не могла видеть, взял ее за руку, чтоб помочь ей привстать; она встала и пошла как во сне или как автомат, двигающийся на пружинах…
Она опять увидела черные волны, мостик; потом ее повели через какую-то местность, похожую на сад или, может быть, кладбище… Потом – звук отпирающегося замка, скрип раздвигаемой решетки, лестница, потом опять несколько дверей и наконец – комната.
Пережитые потрясения до того истощили ее силы, что она почти в беспамятстве позволила чужим рукам раздеть себя, потом упала на кровать, белые занавески которой казались ей саваном, и повернула голову к стене, как бы готовясь умереть.
Но в возбужденном воображении возникали образы Лонгсворда и ребенка… Она зовет их к себе на помощь, она просит их спасти ее… потому что снова возвратился ужас, безумный, тяжелый, немой, убийственный… Бедная, бедная Антония! Напрасно ты шепчешь эти два имени: один уже не слышит тебя, другой еще не может услышать! И ты мысленно ищешь человека, который мог бы спасти тебя; ты вспоминаешь дом, где твоя мать плачет у камина, а холодный, строгий старик – отец, смотря на черные стены своего фамильного замка, радуется, что спас честь фамилии, продав ее Бартону.
Тишина. Только в соседней комнате часы отсчитывают долгие, медленные часы… Машинально Антония повторяет за звоном: «Один, два, три!» Горячка охватывает ее мозг… и она тихо шепчет слова песни, которыми убаюкивала ее старая негритянка-няня…
И в эту минуту – не игра ли это воспаленного воображения?.. Ей кажется, что две руки, нежные девичьи руки обнимают ее шею, потом губы прикасаются к ее лбу и голос, звонкий и чистый, как воркованье птички, говорит ей:
– Надейтесь!
Глава 10
Заговор честных людей
Кто произнес это? И кто же, впервые за столь долгое время страданий, обратился к несчастной женщине со словом утешения?
Мы сейчас объясним это…
Расставшись с Антонией, Эдвард отправился к Дану Йорку. Друзья строили предположения, анализировали, спорили…
Бартон, конечно, обратился к одному из тех врачей, которыми наводнен Нью-Йорк и которые извлекают доходы из чужих преступлений.
В Нью-Йорке, как, впрочем, и во всех городах Соединенных Штатов, существует чудовищная индустрия, открыто заявляющая о себе, рассылающая свои объявления, печатающая свои рекламы, цинично взывающая к самым низким страстям…
Если бы не всем известные факты, то нельзя было бы поверить, что целые дома в Нью-Йорке исключительно предназначены для такого рода постыдных операций… и полиция будто ничего не знает и не хочет знать, вмешиваясь только в случаях публичного скандала. Как в Спарте убивали плохо развитых или больных детей, так в Соединенных Штатах уничтожают детей незаконных.
Итак, Бартон только следовал традиции, ища содействия одного из таких врачей, а искать он должен был лишь потому, что ему нужен был человек надежный, который сохранил бы тайну, и еще потому, что он сам боялся того, что делал.
Дан Йорк организовал тайный и постоянный надзор за Бартоном, твердо решив помешать задуманному преступлению.
Поэтому, как только Лонгсворд изложил ему последний разговор с Антонией, Дан сказал:
– Идем!
Они пришли на площадь Святого Марка.
Дан направился к дому миссис Симонс. Когда она увидела Дана, то вскрикнула от испуга. Никогда она не встречала его иначе. Худой, мрачный, с блестящими, как черные бриллианты, глазами, Дан пугал ее и приводил в трепет.
– Эванс дома? – спросил Йорк, не замечая ее волнения.
– Да, сэр Дан, да, он дома.
Миссис Симонс уронила две гренки в золу.
– Мне необходимо видеть его, причем немедленно.
Дан и Эдмонд Эванс были давно знакомы. Их сдружил интерес к природе. Очень часто они вместе с Колоссом ночи напролет занимались различными опытами, восхищаясь и ужасаясь раскрытыми ими тайнами материи…
Эванс тотчас же вышел. Лонгсворд удалился вместе с миссис Симонс в соседнюю комнату.
Йорк и Эванс долго говорили. Затем пожали друг другу руки. Эванс не колебался ни минуты. Он согласился исполнить роль мерзавца, полезного Бартону… Они решили, что он сам предложит свои услуги в качестве детоубийцы. Бартон не побоится довериться ему: он молод, следовательно, готов на все, чтоб разбогатеть…
– Это еще не все, – сказал Дан Йорк. – Вы понимаете, дорогой Эванс, как тщательно мы должны все продумать и предусмотреть… Нам нужен еще один человек, который бы ухаживал за больной. Иначе Бартон запросто может приставить к своей жертве шпиона или даже убийцу, отравительницу… чтобы скорее докончить дело, совершающееся, по его мнению, слишком медленно.
Эванс раздумывал с минуту.
– Благодарю вас, Дан, – сказал он, – что вы подумали обо мне, когда задумали доброе дело. Да… Вы правы: нельзя ничего делать наполовину… Подождите меня немного…
Эванс зашел к миссис Симонс и, извинившись перед Лонгсвордом, сказал этой славной женщине несколько слов на ухо. Она выразила крайнее удивление. Но в этот день она, кажется, была расположена повиноваться и потому немедленно взбежала по лестнице, а через несколько секунд появилась вновь в сопровождении Нетти Дэвис.
Эванс представил Нетти Дана Йорка. Поэт пристально смотрел на нее. Какие-то неясные образы волновали его, когда он смотрел на это лицо.
– Извините, – сказал он наконец, – не имел ли я ранее чести где-нибудь встречать вас?
– Не думаю, – отвечала Нетти, – хотя очень давно я хотела познакомиться с вами…
– Может быть, – предположил Эванс, – Дан Йорк встречал вас в Академии художеств…
И он напомнил о картине, наделавшей шуму и которой, если помнит читатель, так долго любовался поэт.
Дан Йорк казался погруженным в размышления. Потом вдруг он вскинул голову.
– Я убежден, – сказал он, – что если я не видел юную леди, то встречал одного или даже двух существ – не смейтесь, это так, – абсолютно похожих на нее… Мы поговорим об этом после… Мы поищем… А пока скажите мне вот что: выставленная вами картина не взята ли из действительных воспоминаний? Не была ли она в некотором роде отражением опыта?
Нетти взглянула на него с любопытством.
– Почему вы так считаете?
– Все равно! – быстро отвечал Дан. – Я угадал? Правда?
– Да.
Дан Йорк провел рукой по лбу.
– Хорошо, хорошо! – сказал он. – Мы поговорим потом… Сегодня займемся страждущими, требующими нашей помощи… Эванс, сказали ли вы мисс Нетти, о чем мы ее просим?
– Нетти согласилась.
Поэт церемонно взял ее руку и поцеловал.
– Нечего делать! – воскликнул он. – Мизантроп становится филантропом, если на свете есть такие славные люди…
Вот почему Антония почувствовала объятие нежных рук. А побледневший Эванс стоял тут же, в ногах у больной, и ожидал рождения ребенка, которого взялся спасти…