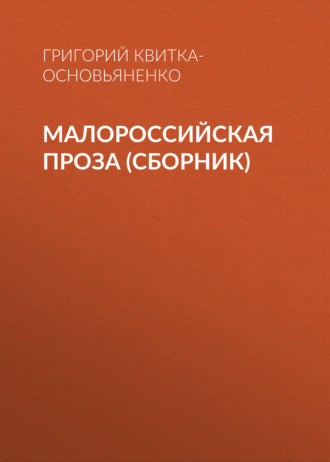 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
– Садись же, приятель! Какого черта там, подле порога, маячишь, как та собака на веревке? Иди же, иди, садись подле меня; я буду обедать, а ты тяни грушовку.
И приказал принести наливки полную кружку.
Прокоп Григорьич думал-думал, после стал ходить по хате и поет себе под нос «Склонитеся веки со человеки», а потом как брякнет шапку оземь, как вздохнет, да и подошел к пану Власовичу и, закручивая усы, стал ему говорить:
– Ей, истинно, не лгу! И да покроет меня общая матерь наша земля на сонмищи, аще солгу хотя полслова. Не довлеет ни единому начальнику угобзения творить свой десной руке, сиречь писарю; понеже и поелику всяк человек имать главу; глава имать разум; разум имать волю, а сия, рекомая воля, повелевает и десницею, и шуйцею, и всяким членом. Но сие суть приклад, а разумение ему сицевое: человек – конотопская сотня; глава – пан сотник; разум во главе – аз, мизерный писарь; аз имею волю, сиречь дарование написать бумагу так, что едва ли и сам полковой писарь утнет подобную. Аще ли человек не повинуется главе – уне есть; такожде и глава разуму: во оно время имать быти смятение и содрогание. Тако и зде: аще сотня не имать повинутися пану сотнику, а сей вопреки иметь творити мне хуждшему – и, что паче всего, не прикрывати его незнаний, но еще и глумитися? Але! Почто я и на свете пребываю? – Да наговоривши такого, сел на лавку и рукою подперся, да и тужит. А Никите Власовичу жаль его стало, и говорит:
– Когда правду, братец, сказать, то я не понял вовсе ничего, что ты мне это рассказывал. Ведь это все из писмовного? А ты знаешь, что я его не вкушу и что оно мне тяжело, как кто ко мне с ним подвернется. Сделай же дружбу, не сердись на меня и из сердцов не говори мне из писмовного, а говори просто. Тут и так, не тебе говоря, горе, да еще с бедою, к тому ж еще и в поход идти… Вот давай про это толковать, что нам по этому рапорту делать?
– Черт же знает, что вы говорите, – зашумел писарь на пана сотника, – подобает ли же от начальства к подчиненности писать рапорт, повеление? Несметное множество раз рекох вам, и се все всуе!..
– Да все же то рапорт, бумага, как бумага, не что больше. Я рад, что и рапорт называть вытвердил; а другого, как ты называешь, я и не выговорю. Но кат их бери и с рапортами. А вот давай толковаться, как собираться в поход. Ведь сотня вся, то и хорошо. Ну, говори, что далее делать?
– Гм! гм! – стал кашлять Григорьич, вспомнив, как он считал сотню. Потом начал с лукавством говорить: – Что повелит пан сотник, имею неупустительно исполнить.
– Да сделай милость, Григорьич, полно тебе мне этим надоедать! – говорил пан сотник, садясь за стол, потому что поставили обед и полную кружку наливки принесли. – Садись, – говорит, – со мною; а когда не хочешь обедать, так тяни грушовку да об делах мне не докучай.
Вот сотник молча обедает… А писарь сидел-сидел, молчал-молчал… как вдруг за ложку да в ту же миску… да и начал, по его словам, «сокрушать» прежде борщ горячий со всякою мелкою рыбкою; там пшонную кашу с олеею, потом застуженный борщ с линями, а там уху с налимами да с пшеничными галушечками, да жареные караси – да больше и ничего. Хотя наш Григорьич и обедал дома не меньше того, что и теперь ел у пана сотника, так ему это ничего: он учился в школе у дьячка; там за голос, что было как на обедах поминных поднимет, так точно, как колокольчик, на всю улицу слышно, что даже в ушах трещит; так его пан дьяк бывало по обедам и водит с собою. Так с ним и наш Григорьич приучился, и ему не страшно было хоть шесть обедов обедать. Вот потому-то и с Власовичем, как увидел вкусные кушанья да еще со свежею рыбою, так и принялся уписывать, как будто с утра еще ничего не ел.
Вот как поел знатно, что даже за ушами пищало, потом схватил кружку да, не отливая в чарку, так из нее всю грушовку и высосал. Потом, вставши из-за стола, поблагодарил Богу и хозяину, сел на лавке, выкашлялся, усы разгладил и говорит:
– Добрый ради трапезы и преотменныя грушовки предаю вечному забвению прискорбие мое. Да не помянется к тому треклятая хворостина, преломлением своим похитившая было единого казака. Цур ей! Да пребудет она тресугубо проклята и да сгорит в пещи халдейской, а еще лучшее, как в геенне огненной! Давайте же дело говорить и дело творить. Да будет вам, пане добродею, ведомо, что нам невозможно в поход выступить… Вот так-то и начал крючки загинать…
– Йо! – даже вскрикнул пан Власович от радости и подбежал к нему, чтоб выспрашивать, и говорит: – Как же это можно? А рапорт?
– Але! Вы-таки все свое! Вам хоть кол на голове затесывай, то у вас все рапорт. Ну, нужды нет. Хотя бы они как ни расписывали, а нам не можно идти; нам не суть удобно, нам некогда…
– А почему же нам некогда? Сделай любовь, разжуй мне это слово: почему нам некогда?
– Гм! гм! – выкашлявшись и подумавши, говорил Григорьич: – Какая нам соприкосновенность до Чернигова и до самой полковой старшины, аще мир весь погибает!..
– Как же это? – испугавшись, спрашивал пан Никита. – Отчего мир погибает? Что же это такое? Я конотопский сотник да и не знаю, что мир погибает? Да говори же, будь ласков, отчего он погибает и не можем ли мы его как-нибудь защитить или подпереть?..
– Погибает – вздохнувши, говорит Пистряк. – Всем зрящим и удивляющимся – никто же о помощи не радит. Зрите, пан сотник Власович, и ужасайтесь: три седмицы-и-пол дождь не спаде, и земля не одождися, и небо заключися, вся претворишася в прах и пепел, вся прозябения изсхоша, и единая пыль носится в нашей вселенной! и – о горе мне грешнику! – пыль сия водворяется в непорочном доселе носе моем и действует чиханием, одобно аки бы от вдохновения нестерпимого и тре окаянного – тьфу! – табаку, от него же чист бых и непорочен от утробы матери моея до зде… О горе!..
– Так отчего же тут миру погибать, когда ты, пан писарь, чихаешь? – спрашивал его с большим удивлением пан Забрёха.
– Але! Чихаешь! – повертевши головою, говорил Григорьич. – Чихнет, и не только я, да хоть бы и сам полковой писарь; да что и говорить: чихнет и наш наияснейший и наивельможнейший пан гетман, как оный зломерзкий табак возгнездится в носу его ясновельможности; а ему, окаянному табаку, подобие суть сицевая пыль, ветром зозметаемая. И аще не сотворим внезапного одождения, все изсхнет и погибнет! Зелие и злак извяднет и не будет хлебеннего произрастания; тогда и мы, не точию возчихаем, но и умрем от глада и жажды внезапною смертию. Разумно вам реку: подобает одождити бедствующую землю нашу!
– Вот же только через десятое-пятое понял, что ты, пан писарь, мне говорил. Ведь ты говоришь, что нет у нас дождя? Так что же будем делать? Разве можем мы знать небесные силы? И можем ли сделать, чтобы шли дожди?
– Можемо! – закричал на всю хату пан Пистряк. А потом как стукнет кулаком по столу и закричал еще громче: – И паки реку, можемо!
– А говори, пан писарь, говори как? Я и конотопский сотник, а что-то и поныне не знаю этого средства.
– Внимайте, пан сотник! Да будьте ласкавы, Никита Власович, поймите, что я вам буду говорить, чтобы мне по десяти раз не толковать вам одного. Есть на свете нечестивые бабы, чаятельно, от племени ханаанского, по толкованию моему, канальского, иже вдашася Веельзевулу и его бесовскому мудрованию, и имут упражнение в ведемстве, иже ночным временем, нам возлежащим и спящим, сии нечестивыя исходят из домов своих и, воздевше на ся белую сорочку, распускают власы свои аки вельблюжии, и пришедше к соседским и других жителей пребываниям, входят в кравницу, просто рещи, хлев, и имают тамо крав и доят их, доят и кротких овечек, и быстроногих кобылиц – и что реку? – воздоят царапливых кошек, вредоносных мышей, растленных лягушек… и всякое дыхание, ползущее и скачущее, имущее млековместимыя устроения; доят – им токмо нечестивым – известным художеством! Собравше все сии млека диявольским обаянием, претворяют оное в чары, и абие производят все, по своему намерению, как-то: выкрадывают ссущих младенцев из утроб материнских и влагают в оныя лягушку, или мышь, или еще и щенка; поселяют вражду и раздор промеж супружнего пребывания, возбуждают любовное преклонение у юноши к деве и от оной к оному, и прочее зло неудоборекомое. А паче всего, затворяют хляби небесные и воспрещают дождю орошати землю, да погибнет род человеческий. Понятно ли вам теперь, добродею, отколь сия напасть постиже нашу палестину? Ну те же, не зевайте, да говорите: вразумели ли вы глаголанное мною?
– А как же? Хоть я и… зе… зева… ю, а все вразумел. Ты вот это мне рассказал, что у нас нет дождя, что ли?
– Так, так. Но чрез кого сие бысть?
– Через… через лягушек… или… через… кого, я что-то не расслушал.
– Да каких там лягушек? Через ведьм, через ведьм, реку вам.
– Да цур им! Не вспоминай их мне, пан писарь! Хотя еще до вечера и далеко, но как напугаешь меня, то я всю ночь буду пугаться и не засну от проклятых ведьм.
– Нам не подобает их устрашатися, а довлеет искоренять до третьего рода.
– Как же ты их, Григорьич, искоренишь? Ты за нее, а она превратится в клубок, кинется тебе под ноги, собьет тебя да и исчезнет. Разве же не бывает этого? Мало ли старые люди такого рассказывают, так что, заслушавшися, целую ночь дрожаки спать не дадут.
– Не точию старые люди, но и аз можу вам поведать про таковое глумление. Единожды, вечеру сущу, парубочество яша мя и поведоша на вечерницы, идеже ядохом, гуляхом довольно, а пихом без меры, елико можаху; и еще мне в твердости сущу, идох в свое местопребывание, и не доходящу мне хижины старой цимбалихи, внезапу под нозь мои верезеся нечто ся… Глава моя закружися, и аз шатахся и мотахся семо и овамо, и не могущу мне удержатися, падох аки клада и успох, и спах тамо недвижим, аки мертв, дондеже воссия утро. Сие же бысть не иное что, как наваждение преокаянной ведьмы. Подобает убо их крепко приутюжить, да излиют дождь и да оросят землю.
– Как же нам, пан Григорьич, за них взяться, чтобы они возвратили дожди и чтоб после не наделали нам какой беды?
– Не устрашимся и не убоимся! – сказал пан Пистряк. – Славы достойныя памяти покойный родитель ваш и отец, Влас Панасович, велелепный пан сотник прехраброй конотопской сотни, его же мудрость прославляется во всех концах вселенныя, и да почиет над ним земля пером, он с сими бабами египетскими, просто реши, ведьмами, управлялся благомудренно. Довлеет и вам, добродею, последуя стопам и примеру оного, неупустительно сотворение учинити.
– А что ж покойный пан отец с ними делал? Говори-ка, может, и я сумею то же сделать.
– Часто поминаемый отец ваш их восхищаще и в речке топляще. Аще кая суща ведьма та не погрязнет на дно речное, аще и камень жерновный на выи ея прицепят; аще же не причастна есть злу сему, абие погрязнет в воде. Повелите, пан сотник! Топить ли их?
– Да топить их! На что ледащо миловать? – решил Власович.
– Благо есть! – сказал писарь. – Утру сущу, повелю все устроити, яко же обычай при таком казусе бывает, и все будет благолепно. А в Чернигов уже не пойдем?
– Та нет, пан писарь, не пойдем. Нам некогда: мы ведьм топим. Только… как бы отвертеться от них?
– Да отвернемся, пан сотник! И сего ради абие немедленно пошлем гонца пешком, хромого Имка Ферлущенка; да дыблет до высшего начальства с рапортом, что нам не можно в поход идти, занеже мы обаче погружаем ведьм в бездну нашего пруда, иже тщатся погубити весь мир, сокрывше дождь…
– Славно, славно, пан писарь! Вот это мы очень премудро придумали. Идите же да пишите рапорт; а я что-то, разговаривая с вами, крепко спать захотел. Хотел было рассказать и про свою беду, так не смогу и дремлю… – Так говорил пан сотник, зевая во все рот.
Вот Прокоп Григорьич пошел порядок давать, как завтра ведьм топить, а Никита Власович лег опочивать.
Наруку ковинька нашему пану Пистряку: сделал с паном сотником, что ему надо было и чего ему давно хотелось.
«Постриг в дураки, подвел, чтоб не слушал предписания начальства, не шел в Чернигов, может, от татар или от ляхов отбиваться. А пока хромой Ферлущенко, с одною ногою, додыблет и начальство прочитает рапорт, что пан конотопский сотник, вместо дела, принялся ведьм топить, подумает, что он то был неразумный, а то уже и совсем одурел, наверно, его сменят, а сотником наставят… уже никого больше, как меня».
Так думает себе Григорьич, да, кашлянувши, как пан дьяк, собираясь читать полунощницу, думает…
«И вражьим бабам и молодицам, кто мне какую пакость делал, или… тее-то… не сотвориша послушания… знаю таковских… всем отомщу, заполощу их знатно. Спасибо, что мой дурак гнет шею и лезет в беду, как вол в ярмо… Теперь, Прокоп, только погоняй!»
Потом вздохнул да сам с собою даже вслух сказал:
– Зело для нашего братчика, хитрого да разумного писаря, любезное дело есть, егда начальствующий такой же дурень, как наш приснопоминаемый пан Забрёха! Не оскудеет и десница, и шуйца угобзится, и восполняется карман и сундук. Не уменьшай, Боже, таковских!
IV
Смутно и невесело было в одно утро в славном сотенном местечке Конотопе. Хотя до восхождения солнца пока еще и месяц не совсем зашел, поднялся было по всем улицам шум, бегание, говор, крик, но и стихло, и весь народ исчез, так что ни в хатах, ни по улицам нет никого. Только и слышно, что коровы, сколько в них есть духу, ревут затем, что хозяйки не идут их доить и не думают выгонять их в поле; телята по хлевам, слыша, что их матки ревут, себе ме-е-кают и подают голос, как будто упрашивая, чтобы и их скорее выпускали; овечки мекекекают; козы, тоже себе за ними, да стучат ногами, да бегают по загороде, ищут, куда бы выскочить и за собою овечек повести; кони ржут на все село так, что эхо по заре далеко раздается; по хлевцам гуси кге-кгекают, утки кахкают, наседки куд-кудакают… потому что всякое дыхание без человеческой помощи страждет. Слыша такой шум, собаки то лаяли, а то уже начали выть. Малые дети, такие, что еще не смогут ходить, лазят вокруг своей запертой хаты да, оцепившися ручонками за призьбу, силятся подняться на ножки и, нашедши на призьбе щепочку, возьмут в рот и смокчут вместо косточки; да как станут ее в руках поворачивать, не удержатся, да… плюх!.. опять на землю да и заплачут; а тут щенок, ходя близко, подойдет и облизывает ему слезки и под носом и во рту вылижет языком, то дитя, не умея защититься от щенка, еще крепче заплачет, надеясь, что кто-нибудь прибежит его оборонить и утереть… Так что же? Хаты по всему местечку заперты; возы, плуги, бороны, рала, где были с вечера приготовлены, так себе и стоят; волы, поевши свою солому и видя, что никто не гонит их на водопой и не запрягает, сорвались и пошли себе по улицам, и где завидят калачики или ромашку и всякий бурьянчик, то там и пасутся…
Подле дьяковой школы хоть бы тебе один школяр! И пан Симеон, во ожидании их, ходит около школы, приготовляясь на похороны и вспоминая про кутью с медом, да прилежно присматривается во двор старого Кирика, что вчера уже и маслосвятие над ним служили; так не дымит ли у него из трубы, что, может, уже и обед на помины варят, когда уже он умер; так ба! И труба не дымит, и во дворе никто не шевелится…
«Экхе, экхе! Неужели восстанет от одра болезни?» – думает пан Симон и рассуждает, ходя по двору:
– «Какие-то люди теперь крепки на здоровье да долговечные стали!» Вспомянет про холеру, как-то было им тогда прибыльно жить… да вздохнет тяжело, войдет в хату да и станет розги вязать на школяров, чтоб над кем-нибудь гнев свой выместить…
На огородах бурьян и великонек, да никто же его и не думает полоть, хоть лопатки и лежат подле него. А между грядками с капустою, бураками и прочею овощию славно управляются, хрюкая, свиньи с поросятами, и не думая, чтобы что оставить хозяйкам; все выедят и носом роют такие новые грядки, что после них хозяйка с трудом в два дня в лад все приведет; теперь же некому их и выгнать, потому что нет никого…
Да и что же? И в самых шинках пустешенько! Шинкарь дремлет себе на лавке, потому что никого не то чтоб горелку пить, да и жены с невестками нет; так потому-то никто не мешает ему и дремать. Посуда у него, как еще с вечера переполоскал да порасставлял, так она и стоит, и никто не навернется в шинок ни ногою…
Отчего же это так в славном местечке, в Конотопе? Отчего так стало тихо и смутно, что не слышно ни от кого никакого гласа? И ни на одной улице не повстречаешь ни одного человека; как будто – сохрани бог! – все люди во всем местечке повымирали, или – и то не лучше смерти! – крымские татары всех похватали? Где это они девались и отбежали от хозяйства своего и маленьких деточек? Да пусть уже женщины: им хоть целый день, собравшись в кучу, болтать и из пустого в порожнее переливать, а что мужья их и дети без обеда, так это им и нужды нет… Так не только женщин, но ниже одного мужчины нет в селе… да что еще: и такого дитяти, что уже бегает, и такого не повстречаешь! Где же это они есть?..
Эге! Ан вон-вон все собрались вокруг пруда и смотрят… А на что смотрят, так ну-ну! Такого зрелища вряд ли и самый старый, кто есть в нашем Конотопе, чтоб помнил, какое теперь будет совершаться… Да что же там такое?..
Посреди пруда вбиты четыре сваи толопенских и вверху связаны веревками, да опять как-то хитро и мудро перепутано. В каждой свае вверху дыра, и туда просунута веревка… А по пруду ездят люди в лодках; а они не рыболовы, потому что на лодках их нет ни сетей и ятеров, чтоб ловить рыбу, а только веревки… А что на берегу? Так вот там-то весь народ из славного сотенного местечка Конотопа еще собрался, как и солнце не всходило и месяц не совсем зашел… Вот там-то и матери, что пооставляли и хаты, и маленьких деточек, и поросяток, и птиц, и коров, и в печах не топили. Вот там-то и мужчины, что оставили дома больных жен и скотину и позабыли, что нужно ехать в поле… Все, все собралися смотреть, какое тут будет зрелище…
Мало ли их тут было? И по всему берегу, и кругом на бугорках; вот как набрать в мешок зерен, так всем им там тесно было. А мальчишки да подростки, которым из-за взрослых ничего не видно, так даже на вербы послазили и покрыли их, как галки…
А крик, а говор от того народа, батюшки!
Как будто вода шумит весною, прорвавши плотину: все, все вдруг говорят, и никто никого не слушает; а уже никто, как наши женщины-щебетуньи! Вот там-то и шинкарка с невестками своими, что без них шинкарю только и выспаться: говорят, щебечут, рассказывают, кто вчера у них был в шинку, на сколько выпил за деньги, на сколько кто в долг взял, кто что заложил, кто с кем и как побранился, кого – пришла жена – да прогнала из шинка; кто жену в затылок погнал и очипок с ее головы сбил, и она волосом на всю улицу засветила; как девки, обманывая, вместо того, что будто для отца, для себя покупают горелку да по огородам тихонько с парубками пьют.
– Полно же, не все рассказывай! – зашумела шинкарка на невестку, так та и замолчала…
А там, на другом конце, подле вербы, школяры вместо того, чтоб в школу идти да кому из часослова, кому из псалтыря уроки твердить, а кому «мно-тло» складывать, они, собравшись в кучку, сложили виршу на своего пана дьяка, да тихонько и распевают ее. Как же врежет их пан Симеон розгою, что из дому принес, да как погонит их в школу; а сам, гоня их, божится, что за эту песнь, кроме субботы, что по закону подобает, будет их пороть каждый день чрез весь месяц…
А там, подле мельницы, вот там что творится! Ну, ну! Тридцать казаков, кто с нагайкою, кто с надежною дубиною, кто с веревкою, а кто с колом, да все же эти храбрые казаки держатся крепко за веревки; а теми веревками связано семь баб… А что-то за бабы, так я вам расскажу.
Первая, изжившая век, Приська Чирячка. Смолоду не раз сидела в куне[201]; свела на тот свет всех трех своих мужьев и все имение перевела на травы, да на коренья, да на всякие лекарства; да и лечит людей от лихорадки ли, от заушниц[202]; снимает с девок и парней остуду, переполох выливает, слизывает от уроков, сонячницы заваривает… И чего-то она не знала! К ней изо всех мест, даже верст за двадцать, приезжали болящие: иному, кому жить, то и поможет; а кому умереть, то тотчас после ее воды и умрет. То Приська и говорит:
– Не так он болел, чтоб ему живым оставаться.
Раз пан Пистряк просил ее, чтобы дала ему любощей, чтобы его всякая девка ли, молодица ли, на какую он оком накинет, чтоб его и полюбила. Вот же то он выпил тех любощей да и пошел на вечерницы; да только было что развеселился… как же сделается ему дурно!.. Так и к дому не добежал. Вот с того часа и стал на нее гонитель.
Другая была Химка Рябокобылиха, стар-человек; замирала на своей жизни. Уже когда у кого что пропадет, то и не думай идти к ворожее: она самую умелую изобличит во лжи, а скажет на того, на кого хочет да на кого сердита. А ей как не верить, когда она, замирая, видела, какое на том свете есть мучение и ворягам, и табачникам, и лгунам, и потаскухам; так было кого поймавши на бакше с огурцами или в амбаре с салом, приведут к ратуше, то, когда Химка скажет, что не он украл, то его тотчас и отпустят да принимаются за того, на кого Химка скажет, хотя бы его в то время и в селе не было. Вот так сказала было раз и на пана Пистряка, что будто бы он у человека пчелу подрезал. Ему оно так и прошло, известно, как писарю. Только уже он на нее с той поры и наметил.
Третья – Явдоха Зубиха, старая и престарая! Самые старые деды, что уже насилу ноги волочат, рассказывают, что, как они были еще подпарубочими (подростками), так она уже и тогда была такая старая, как и теперь; так что, если бы не солгать, было ей лет пятьдесят от роду. И говорят про нее люди, что она как днем, то и стара, а как солнце заходит, так она и молодеет, а в самую полночь станет молоденькою девочкою; а там и станет стареться и ко всходу солнца опять станет такая старая, как была вчера. Вот она, как помолодеет, то и наденет белую сорочку и косы распустит, как девка, да и пойдет по селу доить коров, овец, коз, кобыл, сук, кошек, а в болотах лягушек, ящериц, змей… Уже такая не выдоит, кого задумает! Раз пан писарь Григорьич читал перед громадою какое-то предписание от начальства, и, хотя перед тем дней с пять пил, а тут слова складывал порядочно и уже было взялся по верхам читать, как вот и идет Зубиха, да и глянула на него – и только всего, что усмехнулася – так что ж? Он тотчас бумагу оземь, полы подтыкал, рукава засучил, да и пустися перед громадою скакать «векгери» (детская игра, скачут вприсядку с приговорами). Смех был такой, что не то что! Вот с того часу и стал пан Пистряк только хоть погуляет, то тут же и немного поженет химеры. Вот такая-то была эта Явдоха!
Четвертая, Пазька Псючиха, не так стара. Так та все тихомолком, не хвалясь, колдует. Только и видят ее, как все положатся спать: вот она и выйдет на двор, да и махнет рукою. То, куда махнула, оттуда и облака – хоть и не теперь и не скоро еще, но пойдут. А кто бы к ней ни пришел, чтоб или поворожила, или дала каких лекарств, или хоть что-нибудь такое, так что бы ей на поклон ни принес, ничего не возьмет и говорит: «Я ничего не знаю, идите себе прочь». Ну, ну! Такая-то и не знает!
Пятая была Домаха Карлючкивна. Как смолоду еще была девкою, так была так хороша, что и рассказать не можно. Ростом себе невеличка; хоть в какую хату не войдет, а головою потолка достанет; сухая; на долгих ногах; волоса на голове, как волна на гребне; а когда разинет рот, так лопата войдет; носичек как у ястреба; а как смотрит глазками с Конотопа, так одним глядит в Киев, а другим в Белгород, – да и те как будто сметаною залеплены; а личком беленькая, как чумацкая сорочка; да еще к тому, словно граблями, вся рожа исцарапана. Вот с такою-то красою сидела она в девках, сидела. Прежде ждала поповича, после спустила на писарей из ратуши; потом желала бы выйти и за хлебороба, так ба! и личман (пастух) не смотрит! Нечего делать: повязала седую голову, перешла жить в пустую избу на лугу, при болоте, да и стала волшебствовать да людям пакости делать. Уже и не думай никто ее затрогать; вот только не поклонись ей учтиво, или, не приметивши, толкни, или что-нибудь, то тотчас и затрещит:
– Будешь меня, песий сын, помнить, подожди-ка!
То так и есть: или ходючи споткнешься, или за обедом подавишься, или пьяный что-нибудь потеряешь, а уже не пройдет тебе так; хоть – как говорят – не теперь, а в четверг, хоть через год, только уже ее похвалка не пройдет тебе даром… Даже страшно про нее больше и рассказывать! Цур ей!.. Еще, чтоб не приснилась…
Шестая была Векла, старого Штыри – когда знаете – невестка; а седьмая Устя Жолобиха… Так пускай уже кто другой рассказывает, а мне некогда. Чего-то конотопский народ зашумел и закопошился, и перед кем-то расступаются и дают к пруду дорогу… Так уже ведь не до поросят, когда свинью смалят…
V
Смутен и невесел, надувшись, как тот индейский петух перед своими курами, храброй конотопской сотни пан сотник Никита Власович Забрёха, важно выступая, идет к конотопскому пруду. Хотя на нем и синяя черкеска с закинутыми на спину рукавами и татарским поясом подпоясана, и нож на цепочке за пояс заложен, и лицо умыто, и борода подбрита, и на голове шапка, да как у него глаза были заспаны и обдуты, то и видно было, что он целую ночь куликал. Да и правда же была: с печали целую ночь пил наливку. Та к после такой работы, когда не выспишься, то и будешь долго чмелей слушать; я уже это знак. Так как же ему не быть смутным и невеселым? Хоть и подошел к людям, которые перед ним все шапки сняли и покланяются ему!..









