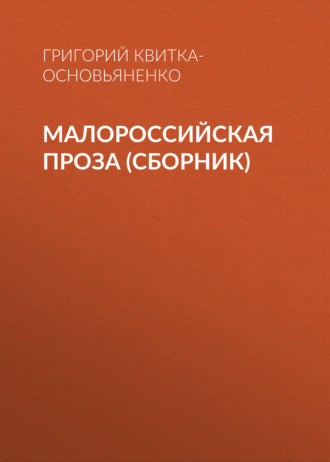 полная версия
полная версияМалороссийская проза (сборник)
Вот туда-то потянул наш пан сотник Забрёха. Не взял же его черт на выдумки! Чует кошка, где сало лежит. Одно то, что девка здоровая, молодая, видная, чернобровая, полнолицая, а имения – имения, так батюшки! Свой хутор, лесок, винокуренка, мельничка, ветряная мельница, а скотины да овечек, так нечего и говорить!.. И все то ей достается. Затем-то так наш Власович и поспешает; даже коню не даст вздохнуть, и сам, не обедавши, тридцать семисотных верст и еще с гоном[189] не отдыхая переехал; и как добежал до того безверхого хутора и встал с лошади подле хорунженковой хаты, так он так и шатается, будто пьяный, – а я же говорю, что он и не обедал нигде.
Поздоровавшись с паном хорунженком и севши в хате, вот наши и разговорились между собою и узнали, что еще и отцы их между собою дружили, а потому и им надо не отставать один от другого. Далее хорунженко спрашивал пана сотника, что куда его бог несет и зачем? Тотчас наш Власович и стал лгать. Старые люди говорят, только что еще задумаешь свататься, то и станешь лгать; и что безо лжи ни один человек не сватался. Вот же то и сотник говорит, что будто бы ему нужно нанять в винокурне барду[190] для волов в зиму (а где еще-то та и зима? Еще только Петровки идут). Так он услышал, что у пана хорунженка в винокурне барда добрая, и хорошо скотину присматривают, так он приехал нанять и сторговаться.
– Не знаю я этого дела и ни во что не мешаюсь. Про то сестра знает, – сказал ему в ответ пан хорунженко.
– А где же Осиповна Олена? Может быть, ее позвали бы, то мы с нею и кончим дело, – сказал Забрёха.
– Але! Сестра в поле. Поехали там немного проса посеять, так она присматривает, потому что без нее никто ничего не сумеет и сделать. А вы, Власович, не скучайте; она к вечеру и будет. Пока она возвратится, девка, а принеси-ка нам сливянки, то мы по горшочку, по другому выпьем. Да уже вы, пан сотник, у нас и заночуйте, потому что уже не рано, – сказал хорунженко.
– Панская воля! – ответ дал Никита и радехонек себе.
Вот, как выцедили они по кувшину на брата сливянки, а после и терновки выпили немало, приехала с поля и наша Олена. Видит, что чужой человек, тотчас бросилась, велела поймать в пруде карасей и заказала ужин готовить; сюда-туда бросилась и дала всему порядок: что и завтра работать и кому, куда и зачем ехать; а после принарядилась-таки мило, как пристойно панночке, да еще и хорунжевой дочери: к старенькой плахте да привесила люстриновую[191] запаску, надела также шелковую юбку (корсет), да на шею на черной бархатке дукат да красные башмачки обула, а на голову хорошую ленту повязала да и вошла и поклонилась пану Власовичу низешенько.
Наш Забрёха как повидел такую панночку, что не только еще отроду не видал такой, да она ему и не снилася такая, так даже задрожал и не помнит, что ему и говорить, да уже хорунженко напомнил и говорит: «Вот же, пан сотник, вам и хозяйка; договаривайтесь с нею, она всему голова».
Так что ж то наш Власович? Ни пары из уст. По сле принялся, мямлил-мямлил… да и начнет про волы, а оканчивает голубями; думает о барде, а говорит о терновке; да как сбился с толку и замолчал-замолчал; только и знает, слюнки глотает, глядя на такую кралю[192].
Олена себе девка бойкая была. Хоть пан сотник и сюда и туда загинал, а она его тотчас поняла, каков он есть и зачем приехал, да и говорит ему:
– Хорошо, паныченько! Докушивайте же на здоровье терновочку, да поужинаете, да ляжете спать, а завтра – даст бог свет, даст и совет – то и посоветуемся, что делать надо.
Забрёха, это услышавши, сам себя не вспомнил от радости! Думает: вот дело и совсем, завтра только рушники брать. Да с этою мыслию за кувшин да давай снова попивать наливку с паном хорунженком, который этого дела не оставляет да еще и любит.
Олена таки частенько к панычам входила, так, будто за каким делом, а только, чтоб больше рассмотреть Никиту Власовича – что оно такое есть? Да как войдет, как поведет глазками, что, как терн-ягодки, на пана сотника – то у него язык станет словно шерстяной и не поворотит его; а сам весь как в огне горит. Приготовивши ужин, она уже больше и не входила. Одни панычи поужинали, и, окончивши кувшин с терновкою, пан хорунженко хотел идти спать, как вот наш Забрёха выкашлялся, потер усы, да и стал говорить ту рацею[193], что ему дьячок сочинил давно уже для такого случая. Вот и говорит:
– Вот послушайте, паныч Осипович, что я вам скажу. Несоразмерно суть человечеству единопребывание и в дому, и в господарстве. Всякое дыхание тут тщится быть в двойстве. Едино человеку на потребу – имети жену и чада. И аз нижайший возымех сию мысль и неукротимое желание… – Да и замолчал. Ни сюда ни туда.
Хорунженко совсем было дремал, но, прислушавшись к этой речи, наконец сказал:
– Что это такое, пан сотник, вы говорите? Что-то я ничего не понимаю! Не после терновки ли вы такие стали?
Вздохнул Власович, да и говорит:
– А, чтоб его писала лихая година! Ведь же говорил ему, что долгая, не выучу; так не укоротил же! Это мне такое написал наш воскресенский дьячок…
– Да что оно такое есть? – спросил Осипович. – Это вирша[194], что ли? Или заговор от змеи?
– Але! Я и сам не знаю, что оно и для чего?
– Так на что ж мне такое к ночи говорите? Меня уже из-за плеч берет!!!
– Да я бы и не говорил, так беда пришла!
– Да какая там беда? Говорите скорее: спать хочу.
– Але! Кому спать, а кому и нет… – сказал Власович, да, вздохнувши тяжело, поклонился хорунженку низехонько, да и говорит: – Отдайте за меня Олену, вашу сестрицу!
– Йо![195] – сказал хорунженко, задумался, стал почесывать затылок, и плечи, и спину, а потом и говорит: – Повижу, что сестра скажет; пускай до завтра. Ложитесь-ка спать. – Да и пошел от него.
Лег наш Забрёха спать, так ему и не спится; ждет, не дождется света, чтоб скорее ему услышать, что скажет Олена… Ну, сяк-так дождалися света, встали панычи и сошлись. Пан Власович тотчас и спрашивает:
– А что же вы мне скажете? Если наша речь к делу, так я побежал бы скорее да со старостами и явился бы сюда закон исполнить. Говорите же!..
Сопит наш хорунженко и ничего ему не сказал, только крикнул в комнату:
– А ну, сестрица! Дай нам позавтракать, что ты там приготовила? Вошла из комнаты служанка, поклонилась да и пос тавила на стол перед паном Власовичем на сковороде… запеченную тыкву!.. Как рассмотрел наш Забрёха такой гостинец, как выскочит из-за стола, как выбежит из хаты… Как вот тут батрак уже и держит его коня и уже оседланного… Он скорее на коня да уходит помимо изб… только и слышит, что люди с него хохочут!.. Ему еще больше стыдно… Еще больше коня погоняет… Да как выскакал из хутора, рассмотрел:
– Что тут болтается на шее у коня?
Когда же смотрит, веревка… Потянул ту веревку… ан и тут тыква сырая прицеплена!.. Бросил он ее далеко, а сам за нагайку – знай погоняет, знай погоняет своего коня.
Одно то, что стыд, а тут и такой девки жаль!.. Да еще и не евши, и не пивши!.. Вот уже наш Власович и домой с тыквой (с отказом) так скачет, как бежал к невесте, думая рушники брать. И самому беда, и конь выморен – так что насилу, насилу дотащился до дому уже в полночь и – как я говорил прежде, – не раздеваясь, лег скорее спать.
II
Смутен и невесел сидел в светелке на лавке конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха. А о чем он тосковал, мы уже знаем… эге! Да не совсем. Не даст ли нам толку разве вот этот, что лезет в светелку к пану сотнику? А кто же то лезет? Что же он так хлопочет? То сунется в дверь, то и назад. Вот та хворостина, что несет в руках, та его удерживает: когда держит ее впереди себя, то только что нос в дверь покажет, а хворостина уже и уперлась в угол; когда же ее тащит за собою, то войдет совсем в светелку, а она за ним тащится и удерживает его, как та сварливая жена пьяницу-мужа; поперек же и не говори ее всунуть в светелку, потому что крепко длинна была. Лезет то не кто, как Прокоп Григорьич Пистряк, конотопский сотенный писарь и искренний приятель конотопского пана сотника, Никиты Власовича Забрёхи, потому что он без него ни чарки горелки, ни ложки борщу ко рту не поднесет. А уже на совете, как Прокоп Григорьич сказал, так оно так и есть, так и будет – и уже до ста баб не ходи, никто не переуверит в противном. Что же то он за хворостину тащит в светелку к пану сотнику? Але! Лучше всего послушаем их, и о чем они себе будут разговаривать, вот тогда все будем знать. Да еще же и то знайте, что пан Пистряк есть писарь: двенадцать лет учился в школе у дьяка; два года учил часослов[196]; три года с половиною сидел над псалтырью[197] и с молитвами совсем ее выучил; четыре года с половиною учился писать; а целый год учился на счетах выкидать; а между этим временем, ходя на клирос, понял гласы, и ирмолойные[198] догматики, и Сковородины херувимские; туда же за дьячком и подьячим окселентовал; а уже на речах так уже боек, и когда уже разговорится-разговорится, да все неспроста, все из писания, – так тогда и наш Константин, хоть и до синтаксису[199] ходил, слушает его, слушает, вздвигнет плечами да и отойдет от него, сказавши: «Кто тебя, человече, знает, что ты говоришь?» Вот такой-то был у нас в Конотопе писарь, вот этот Прокоп Григорьич Пистряк. Так, когда начнет он с паном Забрёхою разговаривать, вы только слушайте, а поймете ли что, не знаю, потому что он у нас человек с ученою головою: говорит так, что и с десятью простыми головами не поймешь.
Вот же то, как пан сотник видит, что пан писарь не влезет к нему в светелку за этою длинною хворостиною, то и спрашивает:
– Да что это вы, пан писарь! Какого черта ко мне в светелку тащите?
– Это, добродею, рапорт о сотенном народосчислении, в наличности предстоящих, по мановению вашему; да пусть бы он сокрушился в прах и пепел! Невместим есть в чертог ваш! Подобает или стену прорубить, или потолок поднять, потому что не влезу к вашей вельможносте! – сказал Пистряк, да и начал снова хлопотать с тою хворостиною.
– Что же это за рапорт такой длинный? Хворостина же ему, видно, вместо хвоста, что ли?
– Хворостина сия хотя и есть хворостина, но оная не суть уже хворостина; понеже убо на ней суть вместилище душ казацких прехраброй сотни конотопской за ненахождением писательного существа и трепетанием моея десницы, а с нею купно и шуйцы.
Вот так отсыпал наш Пистряк.
– Да говорите мне попросту, пан писарь! О, уже мне это письмо надоело и опротивело, что ничего и не пойму, что вы говорите. Тут и без вас тоска одолела, и печенки, так и слышу, как к сердцу подступают… – сказал пан сотник да и склонился на руку… Да чуть ли таки что и не пустил слезок пары-другой.
– Горе мне, пан сотник! Мимошедшую седмицу[200] глумляхся с молодицами по шиночкам здешней палестины, и вечеру сущу минувшаго дне бых неподвижен, аки клада, и нем, аки рыба морская. И се внезапная весть потрясе мою внутреннюю утробу! А пане и паче, егда прочтох и уразумех повеление милостиваго начальства собиратися в поход даже до Чернигова. Сие, пан сотник, пишут, щадя души наши, да некогда страх и трепет обуяет нами, и мы, скорбные, падем на ложи наши и уснем в смерть; и того ради скрытность умыслиша, аки бы в Чернигов; а кто ведает? О горе, горе! И паки реку: горе!
– О горе, горе, Григорьич!
– О горе, горе, Власович!
Вот так-то горевали пан сотник с паном писарем оттого, что прислано им предписание идти в Чернигов со всею сотнею, и собраться со всем прибором, и взять провианту для себя и коней на две недели. Вот – как горюют пан сотник в светелке, а пан писарь за порогом – как этот и выдумал: а уже на выдумки лихой был! Вот и говорит:
– Соблаговолите, пан сотник, дать мне повеление о сокрушительном преломлении сея троекратно противной мне хворостины, яже суть ныне в ранг рапорта; потому что сами созерцаете ясными, хотя и неумытыми вашими очесами, что аз невместим есть с нею в чертог ваш.
Почесал голову пан Власович… Долго думал… После и говорит:
– Это бы по-нашему переломить хворостину? Так ты же говоришь, что это уже не хворостина, а рапорт об нашей сотне; так чтобы подчас не было нам нахлобучки от старших, что мы ломаем сотню! Ты же и сам хорошо знаешь, что пан полковой писарь что-то к нам добирается и так и подсматривает, чтоб мокрым рядном на нас напасть.
– Не убоимся, не устрашимся супостата со всею его враждебною силою! Сего ради довлеет нам против него быти мудрым и сие последнереченное предписание неупустительно исполнити; и того для повели, вельможный пан, да сокрушу сию палицу!
Так, покручивая ус и устремивши глаза в потолок, говорил пан Пистряк. А как видит, что пан Никита ему ни пары из уст не выпустил, потому что и до сих пор не понял, что ему тот говорит, да и вскрикнул:
– Так ломать?
– Да ломай, пан писарь!
Хрусь!.. Пан писарь и переломил хворостину и говорит:
– Преломися! И се ныне могу вместитися в обиталище ваше.
Да это говоря, влез в светелку и кланяется пану сотнику, и подает ему в обеих руках по обломку, и говорит:
– Подозвольте, приимите!
– Да что ты мне это, пан писарь, тычешь в глаза? Ты мне их выткнуть хочешь, что ли? – спрашивает его пан сотник, прижавшись от него к стене и от страха думаючи себе:
«Не погнал ли Григорьич опять химер, как было после перепоя на воскресенских святках?»
Потом спросил у писаря:
– Что оно такое есть? Скажи мне попросту, без письма!
– Сие суть, пан сотник, вместо списка нашей сотни, его же не возмогох списати за дрожанием десницы моея, от глумления пиянственного с вышеизъясненными молодицами; и того ради взях хворостину и на ней на знаменах коегождо казака, и се суть верное число: в каждом десятку по десяти казаков; а всех таковых десятков суть такожде десять; следовательно, сотня вся, как стекло, предстала пред очеса ваша. Соблаговолите, пан сотник, первоначально счет ей учинить по сей хворостине, а потом лицом к лицу самую естественную сотню, собравшуюся подле хаты Кузьмихи, кривой шинкарки, очесами обозреть.
– Эге, пан писарь! Я бы, пожалуй, соблаговолил, так счету далее тридцати не знаю. Считай сам и делай, как знаешь, ты на то писарь; а я уже после подпишу, потому что я сотник не на то, чтоб считать, а только подписывать.
Вот и начал пан Пистряк считать: считает-считает, а в пятом десятке одного казака недосчитается.
– Что за притча? – даже вскрикнул он. – Сосчитах, и бяху вси; и се один не обретается. Изыду и паки учиню перепись, кто из оглашенных, не дав мне и пред очи ваши стати, беже и скрыся. Не кто, как уповательно Илько Налюшня.
Вот и вышел к казакам считать их. Пан же сотник, между тем, бросился к кружке с грушовкою, да не переводя духу, горя ради, да и высосал ее всю дочиста. Как вот и пан Григорьич со своими обломками лезет в дверь уже веселенький и скорее, чтоб утешить пана сотника, говорит:
– Не тужите, добродею! Все казачество наше вместе; ни один не улепетнул никуда, вот где они все есть.
И принялся считать… Опять в пятом десятке нет, да и нет казака!
Как застучит Григорьич ногами, как схватит себя за чуб, как начал проклинать отца, и матерь, и весь род того казака, который прячется, пока он рапорт внесет в хату к пану сотнику!.. Как на дворе считает – там все до одного, а в хате считает, то один казак, да все в пятом десятке, да и исчезнет, как будто его «злыдень» слижет! Воротился пан Пистряк к сотне, пересчитал казаков, – все; воротился к пану сотнику, считает на хворостине, где каждого зарубил, – нет одного… бежал. Опять воротится к сотне, чтобы тому, кто прячется, голову побить, – так же все как раз; а в светелке по зарубкам нет одного. Да раз десять было ему такое «привидение!» Уже он, сердечный, засапался, бегая то в хату, то из хаты, то к сотне, то от сотни, до того, что уже и пан Власович оделся и совсем вырядился, и уже и шапку взял, чтобы идти к сотне, – у пана писаря один казак все уходит, и кто такой? – неизвестно, потому что все в сборе, и один одного, по приказу писаря, держат за пояс, чтоб не ушел никто, пока их на хворостине пересчитают.
– Да полно тебе, Григорьич, шататься! Пойдем да вдвух со мною пересчитаем. Когда налицо все, да только на хворостине нет одного, так кат (палач) его возьми, пускай тот и пропадает, зачем уходит; лишь бы живые все были.
Сказал это пан сотник да смотрит быстро на писаря, до дела ли он это сказал и что не загремит ли на него пан писарь, как это и часто бывало, за сказанный вздор.
Долго слушал его Прокоп Григорьич, разводя пальцами… Потом как цмокнет, как подпрыгнет, как крикнет:
– Вот эта речь до дела! Утробою сожалею, что таковое мечтание изыде из главы моея и уклонися в дебри пустынныя! Да вам, пан сотник, довлеет и полковым судьею быть за такое мудрое и неграниченное решение, его же и аз не возьимех… Пойдем же, батько! Ныне возвеселися утроба моя от целости сотни – и скончавше дело, время и подкрепление чинить.
Вот и пошли. Агу! И наш пан сотник повеселел немного, что как-то, ни думая ни гадая, да придумал к ладу, да еще так, что и сам Прокоп Григорьич Пистряк, конотопский сотенный писарь, да и тот его за выдумку отроду впервое хвалит. А Григорьич идет за сотником да свое думает и гадает: «Это уже на беду идет, когда пан сотник да будет разумнее меня! На что ж я писарь, когда он сам будет выдумывать и подписывать. Вот это только не видно, как и писать сам станет, да, я думаю, примется сам и на счетах выкидывать. Так не дамся же…»
Подошли к самому шинку Кузьминишны, как тут и сотня стоит, и казаки, сняв шапки, поклонилися пану сотнику.
– Здоровы были, дети! Все ли вы тут? – спросил их пан сотник и, взявшись в боки, окинул их глазом, как будто считал или присматривался каждому в лицо. А он, я же говорю, далее тридцати счету не знал, а казака ни одного в лицо не помнил и не мог сказать, кто из них Демко и кто Процько.
– Здоров, батько! – загремела ему громада. – Все мы тут – здесь до единого.
– А перечти, писарь, не прятался ли кто? – повелевал пан сотник, надувшись как сыч.
Вот писарю Григорьичу опять беда! Все казаки, а как сложил хворостину вместе, так и по зарубкам все.
– Да какой же там черт уходил, как я ходил к пану сотнику? – крикнул Пистряк с сердцем и даже ногою топнул.
– Да постой-ка, Григорьич! – сказал ему, усмехаясь, Власович. – Ведь же казаки все и с хворостины ни один не уходил. Это ты, как переломил хворостину, так она как раз на казаке треснула. Вот ты, держа ее на две половины, потому одного и не досчитывался…
А казачество, это слушая, как поднимет хохот!
– Так-таки, вельможный батько, так! – беспрестанно кричат и говорят: – Вот такой-то, видно, наш писарь! О, чтоб его…
– А чтоб вы взбесились и с казаками, и с хворостиною, и со счетом, – кричал Григорьич на всю улицу, а сам как не лопнет с сердца. Схватил ту хворостину, поломал, истрощал ее в мелкие кусочки да и кинул казакам в глаза, приговаривая:
– Цур вам, пек вам, осына вам! Пускай вам стонадцать лихорадок и полтора столько же болей, когда уже нашелся разумнее меня. На что я вам? – Да и начал опять по-письменному: – Изыду в пустыню и вселюся в горах Араратских, у последних моря! Цур вам!
Вот пан сотник его остановил и, взявши за руку, говорит:
– Полно же, Григорьич, не сердись. В какие-то годы пришлось мне подтрунить над тобою, а ты уже и сердишься. А помнишь, как мне подсунул рапорт, а я, не умея прочитать, подписал на нем кверху ногами. А пан полковник и отписал, что, говорит: – «Конотопский сотник, пан Никито! Ты еси дурень». Да я за это на тебя и не сердился, хотя ты и долго мне за это насмехался в глаза и прикладки прикладывал. Полно ж, полно. Пойдем обедать…
– Пускай вам сей, да той, и с вашим обедом, кроме хлеба святого. Пускай тот подавится, кто такую хитрость под меня подвел… – Замотал руками наш Пистряк, все сердясь, да и пошел, не оглядываясь, домой, ворча сам себе: – Подавишься, как я тебе галушку поднесу. Будет в Конотопе сотник, да не Забрёха… Станут кланяться и Пистряку…
– А нам же какая порада будет? – загудели казаки, смотря, что всех их начальство перебесилось ли, или кат их знает: писарь как будто после белены потянул домой, а пан сотник повесил голову да также пошел к своей хате. Вот возвращают пана сотника и спрашивают, что им делать и для чего их собрали?
– А лысый дедко вас знает! – крикнул на них Никита Власович, ругая и отцов их, и матерей. – Цур вам, отвяжитесь от меня. Пропадайте себе, куда хотите, хотя на виселицу… Какой я порядок дам, когда писарь взбесился? У него и рапорт от начальства… (это пан Власович всякую бумагу называл рапортом, не умея выговорить «предписание» или что там случалось). Пускай, – говорит, – не проспится ли; ведь он часто химеры гонит; так тогда и потолкуем, а теперь – некогда.
Да и пошел тихим шагом домой.
На него смотря, и казачество шарахнуло: кто в шинок, кто в солому спать после такого ученья, а некоторые бросились на огороды пугать девок…
III
Смутен и невесел сидел себе на лавке, да уже не в светелке, а в великой хате, конотопский пан сотник Никита Власович Забрёха, возвратясь после осмотра казацкой сотни. К той беде, что ему вчера Осиповна Олена, панна хорунжевна, поднесла, словно тертого под нос табаку, печеную тыкву, что он после вчерашнего дня не пил, не ел, – что надо ему собираться со своею сотнею в поход, даже в самый Чернигов – да, я ж говорю, после такой беды еще и новое горе сложилося ему, что рассердил своего сотенного пана писаря Прокопа Григорьича Пистряка; и он теперь, рассердившись, не подаст никакого совету, когда начальство пришлет об чем рапорт или как там его. Тогда что делать? А с таким горем, как и не быть ему смутным и невеселым? Эге! Сидит себе сердечный в великой хате, на лавке, в конце стола, голову понурил чуть не до колен. Сидит он уже не час и не два… Как вот работница спросила его:
– Чего это вы, паныченько, тоскуете и так печально сидите? Не пора ли уже готовить обедать?
– Не хочу! – сказал Власович, да и вздохнул тяжко и горестно на всю хату, и подпер голову рукою… Как он этак сидит и все про свое думает… как вот… рып!.. и кто-то вошел в хату… Пан сотник глядь, ан это не кто вошел, как наш Григорьич! Видно, отсердился? Нет, он не отсердился, а пришел к пану сотнику с хитростями. Слушайте, что тут будет. Вот, вошедши да молча и стал у двери.
Ну обрадовался же и пан Власович, как увидел задушевного приятеля своего, а более потому, что он думал, что как он теперь не сердится, так даст мне в моем горе совет. Так Григорьич же не туда гнет: как стал у двери да и стал; и молчит себе, и ни пары из уст не пустит.
– Что скажешь, Григорьич? – спрашивает пан сотник писаря. А тот ему, не сходя с места, ответ дал:
– А что повелите, пан сотник?
– Да ну себе в болото со своим сотничеством! Разве не знаешь моей натуры? Перед казаками так я сотник, а ты писарь, а когда мы вдвоем в хате, так мы себе братья. Садись же, будем обедать, – так говорил Власович.
– Благодарю, я уже обедал.
Да и кивнул Григорьич головою при этом слове.
– Вот уже и лжет, – говорит сотник, – так садися же; я буду обедать, а ты пей грушовку. Что за славная! Прошлогодняя, и только на сей неделе начата; так тут такая, что и пьешь и хочется…
– Испих тресугубую чашу бедствий! – сказал, вздохнувши, писарь. – И уже не могу вместить более суетливой грушовки; да не когда обрящется в устах моих яко пелынь…
– Да что же вы это, пан писарь, – стал к нему сотник ласково говорить, – какого черта и до сих пор вы на меня адом дышите? За что и про что? Так и сам старый цыган не разберет.
– Нелепо есть, пан сотник, совокупляти фараонитское все воинство с нами, правоверными. Тут и без цыгана можно возгробие сотворить. Егда поднесоша мне тресугубо треклятую пинфу, убо что есмь после сего? Аки конь и меск!.. Тьфу, паче и обаче!..
– Да какая ж там, пан писарь, пинфа? Вот только, что ты не понял этой проклятой хворостины…
– Да погибнет она с шумом в пещи огнепалящей! А вам было, пан сотник, глядя на мое глумление, молчание учинить и не при громаде, аки лев рыкающе, вознепщевати на мя; но особ мене появше, поведати было мне истину, да не возсмеются надо мною наши казаки и рекут мне: писарь наш суть дурень; не умел разобрать, что хворостина суть удобосокрушаемая. Я же вам добре еще в светлице поведах, пьян бых и не истрезвихся еще во оное время; и еще руце мои дрожаша, аки древесное листвие; то какова бысть глава со всеми помышлениями? Бысть, ако треволненное море! Того для подобало было вам, пан сотник, вспять зря, покрыть прегрешения брата вашего, сиречь: устами ко ушесем поведати ему, а не во все казацкое услышание.
– Вот же твоя правда, Григорьич, теперь я и сам вижу, что оно так есть. Так сказал Власович. А это было всегда так: что Пистряк ни вздумает, что ни скажет, то уже пан сотник скорее и говорит: так оно есть. Вот как и теперь поддакнул и, глядя ему в глаза, увидел, что это Григорьичу, как вареником с маслом по губам; вот и стал смелее разговаривать с ним, и зашучивать, и говорит:









