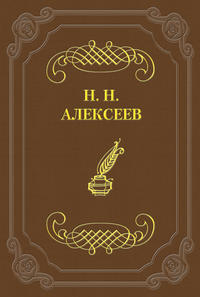полная версия
полная версияРозы и тернии
– Не убивайся, дитятко! Не стоит он… Плюнь! Все равно в девицах не останешься – другой жених есть.
– Не надо мне другого! Не надо!
– Ну, как не надо! Зачем глупости говорить. Жених хороший, богатый… Слушай! Фома Фомич – человек души добреющей. Как услышал он о сынке о своем непутном такое, индо слезы у него, у старого, на глазах выступили. «Экий такой-сякой! – обругал он Алексея, – как не стыдно девицу-то соромить! Все знали, что его она невеста, и на! Ай, грех какой! Надо это исправить… Я вдов и богат, слава богу, возьму я за себя Аленушку!» Вот счастье-то тебе привалило, Ленка! А?
Боярышня вскочила с лавки негодующая:
– За Фому Фомича?! За старика?! Противный, гадкий!.. Ни за что в свете! В монастырь затворюсь либо руки на себя наложу!..
– Аль ты ошалела? – вскричала боярыня.
– Не пойду, не пойду за него!.. Пусть сам Алексей скажет, что не люба я ему больше, тогда…
– Да ведь он женат, дурища ты не последняя!
– Пусть, пусть женат, а все люб больше Фомы Фомича! О господи, господи!
И, закрыв лицо руками, рыдая, Аленушка убежала в свою горенку.
– Вот напасть! – ударив себя по бедрам, проворчала Марфа Сидоровна.
XVII. «Люб, люб, женишок желанный»
Душило горе Аленушку. Тошно ей стало в горенке, хотелось на воздух, хотелось, чтоб ветер вольный развеял хоть частицу лютой тоски, которая терзала девичье сердце. Выбежала Аленушка из своей горницы, спустилась с лестницы, миновала сени и с крыльца бегом пустилась в сад.
А день был такой, в какие, в былое время, бывали свиданья боярышни с ее Алешенькой: теплый, но не жаркий, с легким ветерком и ясным солнышком. Деревья, слегка шурша листвою, бросали густую тень; слышно было, как где-то неподалеку нехитро чирикала какая-то пичужка…
Миром веяло на боярышню от густолистного сада, но не сообщался этот мир ее потрясенной душе. Когда она пришла, по привычке, к тому месту, где бывали ее свиданья с женихом, и села там в тени дерева, горе еще более жгучее охватило ее. Ей казалось, что она только что схоронила своего милого… Да разве не то же самое было и на деле? Ведь ее милый, ее Алешенька, «соколик ясный» все равно что умер для нее. И болит по нем ее сердце, как по покойнике дорогом. Мертвецы не воскресают, не воскреснуть и ему, тому, бывшему «Алешеньке милому», а до того, что есть в живых чужой муж, князь Алексей Фомич, нет ей дела никакого… Сгинул он, пропал, пропало с ним и счастье девичье… И ему, этому счастью, тоже не ожить снова, вовек останется только память о деньках счастливых, да тоска в сердце, что змея холодная… Нет, и еще останется! Останется еще злоба в груди не на «Алешу-сокола» – того только любить можно, а на «Алешку, девичья обидчика, клятв не помнящего, на Алешку, мужа чужого». Ох, и не думала никогда девица-боярышня, что столько злобы может ее сердце вместить! И лютой злобы, такой, которая прощать не хочет да, пожалуй, и не может. Правда, порою эту злобу перебивает сомненье: точно ль Алешенька разлюбил ее, на другой женился, но тотчас же и падает сомненье – ведь не кто-нибудь сказал, не с ветру слух донесся: сказала сама мать родная!
Вот топот конский по мягкой дороге доносится… Кто-то едет мимо сада.
В былое время так Алеша езжал… Ах, Алеша милый!.. Ах, Алешка окаянный, постылый!..
Алексей Фомич, вскочив на седло после разговора с отцом, погонял коня без устали. Конь летел как ветер, храпел, из сил выбиваясь, а молодому человеку все было мало, и он его все нахлестывал. Алексею хотелось бы не скакать, а лететь теперь в усадьбу Шестуновых, каждый миг ему был дорог.
Нужно было свидеться с Аленушкой, пока до ее родителей еще не дошел слух о его приезде и они не заперли ее «за семью дверьми дубовыми, за семью замками железными». Это они ведь, старые, спелись с отцом его и неволят дочь идти за старика богатого – корысть заставляет Луку Максимовича порушать слово данное, грех на душу брать. А она, Аленушка, чай, плачет да и руками и ногами отбивается от жениха нового; чай, только и думает, как бы приехал он, Алеша, да не дал бы воронью голубку заклевать.
«Да! Милая! Голубка! Не верю я в измену твою! Ангел Божий ты по чистоте своей душевной, а не змея злая. Вот вокруг тебя только змеи кишмя кишат злые, старые, матерые. И не отдам никому я тебя, зазнобушку свою! Хоть вся Русь за то восстанет на меня – тебя грудью своей загражу! Не отдам!»
И, волнуемый такими думами, Алексей Фомич все понукал коня.
Когда показалась вдали шестуновская усадьба, молодого князя взяло раздумье: куда ехать – к дому ли или попытать счастья встретиться с Аленушкой, пробравшись в сад к знакомому месту.
Он избрал последнее.
Аленушка сидела опустив голову, когда легкий шорох вывел ее из задумчивости. Она обернулась в ту сторону и вздрогнула, вспыхнула сперва, потом побледнела – она увидела Алексея Фомича.
Боярышня быстро поднялась с земли.
– Милая! Голубка моя! – крикнул, направляясь к ней, молодой князь.
Ей хотелось кинуться к нему, обвить руками, заплакать радостными слезами на груди его.
Она сделала несколько шагов и вдруг остановилась: та злоба, которую она ощущала в сердце и которая притихла на время, проснулась и шепнула: «Женат ведь!»
И злоба осилила любовь.
Затрепетала боярышня от злобного порыва и вместо привета кинула в лицо Алексею:
– Окаянный!.. Не милый!.. Прочь, постылый!
Потом отвернулась и побежала от князя.
Сперва Алексей Фомич остановился, как пораженный громом. После у него мелькнула и словно ужалила мысль: «Правда! Разлюбила!»
И сменилась от этой думы в его душе недавняя нежность бурным гневом.
Он догнал боярышню:
– Так, так!.. Да!.. Змея!.. Продала!.. Выходи за старика!.. Не люб!.. За деньги променяла!.. А!.. Будь мачехой моей, будь!
Аленушка от волнения плохо поняла, что говорил князь.
До ее слуха только долетели слова: «Будь мачехой». Она, вся красная от гнева, повернулась к Алексею и неистово крикнула:
– И стану мачехой! Стану, постылый!
Когда боярышня выбежала из сада, Фома Фомич, только что прибывший, слезал у крыльца с коня. Тут же стояли вышедшие навстречу гостю Лука Максимович и Марфа Сидоровна.
– Эй-эй! Стой, красавица! Куда и откуда бежишь? Со мной, старым, и поздороваться не хочешь? Ишь какая! Неужли уж так не люб я тебе? – сказал, слегка смеясь, остановив ее, Фома Фомич.
Аленушка сперва испуганно взглянула на него, потом, побледнев, подошла, обняла старика.
– Люб! Люб, желанный! – крикнула она каким-то звенящим голосом и скрылась в сени.
Фома Фомич торжествующим взглядом обвел Луку Максимовича и Марфу Сидоровну, а последняя радостно прошептала:
– Слава богу!..
Еще бы ей было не радоваться – ее бокам теперь не грозили кулаки мужа!
XVIII. Все тайное станет явным
После ссоры с Аленушкой молодой князь не поехал домой – отцовский дом стал ему ненавистным. Он надумал ехать к Белому-Туренину и поселиться у него на некоторое время. Что потом будет делать, этого он еще не решил.
Гнев постепенно утих и сменился тихою печалью. Однако теперь, вспоминая сцену ссоры со своей невестой более хладнокровно, он многое стал видеть в ином свете, чем прежде. Ему вспомнилось, как заволновалась Аленушка, увидев его, как хотела кинуться к нему и вдруг, словно что-то припомнив, остановилась на полудороге. Князю теперь это показалось странным. Если бы Аленушка разлюбила его, зачем она стала бы так кидаться к нему? Потом этот внезапный гнев, охвативший ее?
Точно ли все так, как говорил отец? Точно ли идет Аленушка за старика по своей охоте? Нет ли наговоров каких-нибудь на него?
С этою мыслью Алексей Фомич и приехал в дом своего приятеля.
Павла Степановича не было дома – куда он отлучился, этого не знала и сама Авдотья Тихоновна, печально сидевшая дома в одиночестве и радушно принявшая гостя.
После обычных приветствий, расспросов о здоровье и житье-бытье молодой князь приступил к делу:
– А у меня, Авдотья Тихоновна, просьбица есть… И не одна даже. Вот жаль Павлухи не застал – хочу у вас в доме пожить малость.
Авдотья Тихоновна удивилась:
– Али у отца жить не нравится?
– Есть маленько.
– Что ж! Павел, думаю, рад будет такому гостю, а в доме места много, живи себе.
– Благодарствую. А потом к тебе просьба.
– Какая?
– Съезди к Шестуновым, Богом молю!
– Зачем тебе? Сам разве не можешь?
– Не могу… Да, вот послушай, расскажу все.
И Алексей Фомич, волнуясь, рассказал подробно Авдотье Тихоновне о разговоре с отцом, о ссоре с Аленушкой.
Узнав о намерении Фомы Фомича жениться на бывшей невесте своего сына, боярыня всплеснула руками:
– Ах, греховодник старый! Экое задумал! А на тебя Аленушке наплетено что-нибудь беспременно. Да вот съезжу, узнаю… Завтра же поеду. Али нет, завтра нельзя… Когда же можно будет? Сегодня у нас понедельник, съезжу в пяток.
– Вот и ладно! – повеселел молодой князь. – Узнаю правду, все на душе легче будет. А чего ты, боярыня, тоже словно грустна?
– Так, тоскуется. Признаться, думала муженек приедет, наговорюсь с ним, а он вот с час всего со мной пробыл после долгой разлуки, да и уехал… Ох! Известное дело – мужчина, ему простить можно, а все тоскуется, – закончила она с грустной улыбкой.
Алексей Степанович, знавший тайну Павла, с невольным сожалением взглянул на бедную боярыню.
«Черт, Павлуха! Устраивает, верно, свою полюбовницу, а о жене и думать забыл… Ох, любовь, и зла же ты!» – подумал он.
Согласно своему обещанию Авдотья Тихоновна в пятницу поехала к Шестуновым. При ее приезде Аленушка спряталась в своей горенке и так и не вышла к ней; боярышне стыдно было показаться на глаза своей родственнице и подруге. «Ведь люди не знают, с какого горя иду я за старика богатого, скажут: ишь, девчонка корыстная! Так и Дуняша…» – рассуждала она.
Выведывать, как устроилось сватовство Фомы Фомича с Аленушкой, Авдотье Тихоновне не пришлось: Марфа Сидоровна сама все рассказала, хвастаясь, как обманула хитро свою «дочку-полудурью».
– Словно шепнул мне кто в ухо, мать моя, – говорила она молодой боярышне, – сем-ка я скажу, что он женат. И сказала. Ну, Аленка, вестимо, сперва и плакать и охать, а потом обошлась, сама сказала в понедельник Фоме Фомичу: «Женишок ты мой желанный!» Слышь – «желанный», а за час до того и слышать о нем не хотела, как бес ладана!.. Вот оне, девицы-то! Поняла, вестимо, что счастлива будет, коли за Фому Фомича пойдет: он ведь только пыжится так, а на самом деле хлипок изрядно, протянет ноги – все богатство его жене молодой достанется. А в Алексее какая корысть? Разве то, что молод… Так тоже когда-нибудь состарится.
Авдотья Тихоновна, вернувшись, передала все слышанное молодому князю.
Алексей Фомич был вне себя от гнева, когда сведал, как обманули его невесту.
«Милая моя! Прости меня, глупого! – мысленно просил он прощения у Аленушки. – И как это я подумать мог, что ты по доброй воле променяла меня на деньги стариковские. Ах, я, дурный, дурный! Стало быть, не знал я еще как следует моей любы дорогой! Хорошо, что вовремя сведал, – что бы было, если бы узнал попоздней, тогда, когда уж и поправить нельзя было бы? Подумать страшно! Ну а теперь посмотрим, как-то отдам я отцу свою невесту! На все пойду – и на ласку, и на грех!.. А я не отдам! Моя люба была ненаглядная, моею и будет!»
XIX. Затеи седого жениха
– Кликни-ка сюда Маркыча, – как-то приказал Фома Фомич одному из холопов.
Ключник не замедлил явиться.
– Что угодно, господин добрый?
– Ты вот что… того… распорядись, чтобы все это было как следует, потому… через неделю… свадьба моя!.. – пощипывая бороду и скосив в сторону глаза, каким-то полусмущенным голосом проговорил князь.
Ключник вытаращил глаза от удивленья, потом лицо его приняло радостное выражение.
– Вот радость-то! Вот радость-то! – затараторил он, словно захлебываясь от избытка чувств. – Боярыней нас хочешь подарить! Ай, любо! Я и то намедни говорю холопам: и чего это наш господин не поженится с молоденькой какою боярышней? Ему ли невесты не сыскать? Всякий с радостью отдаст! А он еще мужчина в самой поре… Из себя видный, сильный… Волосы-то посивели малость – так это и у молодых бывает.
– Так в поре я еще, а? Не совсем старик? – вдруг оживляясь и подбадриваясь, спросил Фома Фомич.
– В такой поре, хоть сейчас на медвежью травлю ехать!
– А, что ж! Мы, пожалуй, и поедем на травлю! Хе-хе! Нечего старость-то на себя напускать!.. Верно, Маркыч?
– Верно, верно!
– А мне к тому ж – из вотчинки моей весть пришла – объявился в лесу матерый медведь, коров зарезал, беда сколько… Вот я созову знакомцев добрых да и поеду с ними зверя бить. Вспомним пору молодую!.. Пред свадьбой-то кстати будет, Елизар, а?
– Вестимо, вестимо! И невеста молодая услышит: «Э! да мой женишок не кисляй какой-нибудь! Молодого за пояс заткнет!»
– Хе! «Молодого за пояс заткнет»! Знай наших! Ой!
– Что ты, боярин?
– Кольнуло тут маленько, – ответил князь, потирая спину, – ну да пустое! Так вот как мы устроим: свадьбу играем через седьмицу ровно от сего дня, а на травлю ехать гостей созову дня за три до свадьбы – надо показать им себя молодцом-женихом настоящим. Так и порешим, ты устрой все – вечерком я скажу тебе, к кому нарочных с зовом послать.
– Слушаю, княже-господине.
– Кого вот из холопей с собою взять, не знаю. Нужно выбрать человек с десяток посмышленей да посильнее, а одиннадцатый с моей ручницей ехать должен. Этого из самых сильных надо выбрать, на случай чего… Эх! Было все у меня заведено: и стремянные, и иные прочие… Ты помнишь ведь?
– Как не помнить!
– А перестал ездить на травли – всех либо в деревню услал, либо на иную работу перевел… Когда я последний раз на охоте-то был?
– Да лет десяток, кажись.
– Срок не малый! И дурень я, чего ездить перестал? Ослаб, что ли? Фу! В спину как ударяет!
– Растереть бы тебе спинку маслицем.
– Пройдет, пустое.
– Я тебе, княже, холопей добрых повыберу. А в оружничии твои, сдается мне, лучше всего взять Никиту Медведя, силен страсть!
– Это новый кабальный, что ль?
– Он самый.
– Ну что, как? Обошелся?
– И-и! Первейший работник! Сначала, было, маленько артачился, а теперь ничего.
– А нравом каков? Не буян? С горя пить не стал?
– Нет, смирен и тверез всегда. Угрюмист малость.
– Работал бы, а то пусть угрюмится.
– Его, говоришь, взять?
– Думается, подходящ будет.
– Очень силен?
– У! Ему и кличка Медведь за силищу дана – кого хошь и что хошь сломает!..
– Такой-то мне и надобен. Ну, иди с Богом, старче, да устрой все, как я сказывал.
– Устроим, княже добрый, спокоен будь.
Когда Елизар Маркович вышел из боярского покоя, лицо его сразу изменило свое выражение, лицо ключника стало довольно кислым.
– Ишь, дурак старый, жениться задумал! Ему в гроб пора, хрычу, а он женихается и на травли ездит!.. Хе-хе! Лучше б в церковь почаще ездил, греховодник. Меня стариком зовет, а сам старей меня. «Так я еще, – говорит, – в поре?» В поре, в самой поре, чтоб в могилу ложиться, хе-хе! Дурень, пра, дурень! – ворчал старик.
В сенях Елизар Маркович встретился с Алексеем Фомичом.
– Что, батюшка у себя? – спросил молодой князь.
– У себя, касатик, у себя! – ответил ключник. – Что долго тебя в доме не видать было? Гостил где? Мы тут соскучились все без тебя…
– Гостил у приятеля, – пробурчал Алексей Фомич и прошел в покои.
XX. Соперники
Князь Алексей Фомич вошел в комнату отца, не велев докладывать о себе.
Увидев сына, старик промолвил только:
– А! Пришел!
– Здравствуй, батюшка… Поговорить с тобой надо.
– Времени нет у меня с тобой растабарывать – в Шестуновское еду к невесте.
– О невесте-то и хочу говорить.
– Гмм… Чай, причитать сейчас начнешь?
– Зачем? Просто просить тебя буду.
– Ну?
– Батюшка! Почто отнимаешь милую мою у меня?
– Поехало! – досадливо махнув рукой, сказал старик, а сын продолжал:
– Батюшка!.. Родной! Не губи ее, не губи и меня да и себя тоже!..
– И себя?
– И себя! Ведь она тебе не то что в дочери – во внучки годится. Женишься на ней – загубишь век девичий.
– Ты что же, учить меня пришел?
– Не учить – просить… Смилуйся, батюшка, смилуйся, родимый! – вдруг опустившись на колени и кланяясь в землю отцу, дрожащим от волнения голосом говорил молодой человек. – Ежли уж так я не люб тебе, что и жизнь мою погубить – ничего для тебя не стоит? Батюшка! Ведь бьется же в твоей груди сердце доброе отцовское, не сердце зверя лютого лесного… Богом молю! Не женись на ней, отдай мне Аленушку!.. Отдай свет очей моих – ночкой темною жизнь моя без нее будет… Батюшка! Голубчик! Пощади! Смилуйся!
Выражение лица Фомы Фомича несколько раз менялось во время речи сына: сперва оно было растерянным, потом смущенным и наконец перешло в суровое.
– Встань! Нечего пол-то лбом вытирать… Чего смотришь? Вставай, вставай.
Алексей Фомич медленно поднялся с колен.
Старик Щербинин молчал и крупными шагами расхаживал по комнате.
Сын ждал.
– Что же, батюшка? – тихо спросил он наконец.
– Сдается мне, Лешка, что ты сегодня хмелен маленько…
Алексей с удивлением посмотрел на него.
– Чего глаза-то таращить? Али не хмелен? Да нешто тверезый сын может отцу такое говорить?
– Что ж я «такое» сказал? Просил только…
– Просил! Ха! Да иная просьба хуже грубости! Поди проспись.
– Коли и хмелен я, батюшка, так не от зелена вина, а от горя лютого! – вырвалось у Алексея. – А от горя разве проспишься?
– Ну ладно, будет толковать – иди, иди!
– А как же, батюшка, смилуешься али нет?
– Дурак!
– За что ж ругаешь?
– За глупость! «Смилуешься»! Быть бы должен я глупее тебя, коли б теперь снова на попятный поворотил. Да и не любо мне ворочать…
– Женишься?
– Женюсь!
– Не сменишь решенья?
– Не сменю!
Алексей быстро поднял понурую голову и подошел близко-близко к отцу.
– Не хочешь добром, отец, силой возьму! Твоей свадьбе не бывать!
У Фомы Фомича шевельнулась правая рука, но тотчас же и повисла спокойно: что-то зловещее, незнакомое ему прочел старик в глазах сына и не решился поднять на него руку; он только, побледнев, насмешливо промолвил:
– Вот как! Не бывать моей свадьбе? Чай, ты не позволишь?
– Не позволю!
– Это сын-то отцу? Диво!
– В храм ворвусь, попу венчать не дам… По всей Москве побегу, кричать буду: смотрите, православные! Видано ли такое – ястреб голубку за себя берет, старик седой – девицу молодую, отец у сына невесту отбирает!
– Попробуй счастья! Вон сынки-то ноне какие завелись!
– Да ведь и отцы-то волки лютые.
Фома Фомич отступил на шаг от сына и смерил его огненным взглядом.
– Не сын ты мне больше! – глухо проговорил он.
– А ты мне не отец!
– Вон!
– Прощай до свадьбы! Попытай счастья сыграть ее! – говорил бледный от гнева Алексей Фомич, направляясь к дверям.
– Стой! Гой-гой! Холопы, сюда! – гаркнул старый, хлопая в ладоши, охваченный порывом бешенства.
Вбежало несколько холопей и Елизар Маркович.
– Взять! – прохрипел князь.
Холопы в недоумении переглянулись и не двигались с места.
– Что ж вы, олухи? Взять его, говорю!
– Берите меня, берите! Драться не буду, – сказал Алексей Фомич. – Что вас-то подводить, неповинных, под гнев зверя такого?
– Алексей! Я тебя на конюшне выпороть велю!
– С тебя все станется! Берите меня, нате, свяжите руки…
– Что ж вы, ребятушки, что ж вы? Снимите кушачки свои да и вяжите ему ручки, если он сам дается… – своим мягким голосом промолвил Елизар Маркович и первый снял кушак и подошел к Алексею. – Уж ты прости… Господская воля…
– Вяжи туже, вяжи! Тешь его стариковское сердце! – кричал вне себя Алексей. – А только, – обернулся он к отцу, – в цепи ты меня закуй, и те разорву, и тогда… О, тогда берегись!
– Ладно, ладно! Ведите его, ребята, да заприте в клеть какую… Да, слышь, Маркыч, подле клети той стражей поставь, чтоб денно и нощно стояли. Ведите! А свадьба моя через седьмицу ровнешенько будет, слышь, ты, полоумный! – вопил в бешенстве Фома Фомич.
XXI. «Гей, гей, сюда! медведь ломает князя!»
Чу! Звучат рога, лают псы, слышатся молодецкие выкрики. Ожил, зазвучал старый лес. А лес дремуч. На много верст протянулся он, темный, молчаливый, таинственный. Много в нем было болот, поросших местами изумрудной коварной зеленью, под тонким слоем которой скрывалась бездонная глубина; много было полян, покрывавшихся летом, что плащом красным, земляникой, много было густых зарослей… Приволье в нем было дикому зверю! И зверья этого было куда как не мало. Водились в нем и ветвисторогие лоси, и хищные остроухие рыси, и медведи разных сортов, начиная от небольшого, проворного «пчельника» и кончая страшным гигантским стервятником, а про зайцев, волков с лисицами, про всякую птицу утиной и курьей породы – и говорить нечего!
Рады были гости Фомы Фомича в таком лесу поохотиться, рассыпались со своими ловчими да псарями кто куда и только, знай, аукались между собой. Эхо подхватывало голоса и разносило их во все стороны, а деревья-великаны стояли неподвижно, словно застыв в тихом, теплом воздухе со всеми своими широкораскидистыми ветвями, и, казалось, прислушивались к новым, незнакомым им звукам и сумрачно смотрели на незваных пришельцев.
– Эка, топь! Хорошо, что коня я оставил, пешью побрел – на коне тут и не пробраться б!.. – говорил Фома Фомич, пробираясь по болотистой заросли. – И хоть бы что еще убить пришлось за все труды мои, а то ничего, ни зайчишки! Срам гостям на глаза показаться будет, ей-ей! Ай, Никита! Глянь, вот так малина! Экие кустищи! А ягод-то, ягод! Спелых-то еще мало, однако, видать… Вот у меня в саду такая была б!
Шедший позади своего господина Никита Медведь нехотя пробурчал:
– Да, кусты добрые, – и опять угрюмо опустил глаза в землю: он последнее время все был сумрачен, а сегодня еще угрюмее. Взглянув на этого мужичка с неприветливо нахмуренными бровями, со впалыми, словно потускневшими глазами, трудно было в нем признать еще недавно веселого парня кровь с молоком, наймита Никиту. Прозвище Медведь теперь подходило ему вполне под стать – этот угрюмый широкоплечий мужик, действительно, напоминал своего лесного тезку.
– Вот будет поспевать ягода, беспременно здесь мишку можно встретить, – продолжал князь.
– И теперь наткнуться можно – вишь, ягода-то красная есть…
– Да, да, я видел… – пробормотал князь, косясь на кусты, и круто свернул в сторону. – Пойдем-ка сюда – может, скорей на полянку выберемся… – добавил он.
И точно – скоро вышли на веселую небольшую лужайку.
– Ну, слава богу! Выбрались! А то весь кафтан свой я изорвал, теперь хоть идти по-людски можно, – довольно проговорил Фома Фомич и вдруг ухватился за рукав Никиты.
– Что ты, княже?
Тот не отвечал, только дрожащею рукою указал на противоположный край поляны. Холоп поглядел и увидел медведицу с двумя маленькими медвежатами. Тут же, поблизости от нее, стоял небольшой годовалый медведь-пестун. И пестун, и медведица стояли, повернув головы в сторону вышедших на лужайку людей, и нюхали воздух. Через мгновение она заметила охотников и издала тихое мычанье. Пестун быстро скрылся с медвежатами за деревьями, а медведица, переваливаясь на ходу, тихо бурча, направилась к Фоме Фомичу и Никите.
Князь трясся, как в лихорадке.
– Бежим! – пробормотал он дрожащим голосом, и сам тотчас же понял, что бежать уже поздно: зверь был слишком близко.
Тогда он выхватил из рук холопа ручницу[18].
– Зелье свежее?.. Да?.. – только спросил он, и Никита еще не успел ответить, как старик прицелился и приложил фитиль к затравке.
Выстрел пронесся по лесу.
Медведица тряхнула головой и громко заворчала. Из ее уха сочилась кровь – иного вреда пуля Фомы Фомича ей не причинила. Она поднялась на задние лапы и, помахивая в воздухе передними, словно готовя их к драке, пошла на охотников.
Князь бросил ружье.
– Никита! Никитушка! Спаси! Родной! – бормотал обезумевший от страха старик, прижимаясь к холопу.
Но холоп молчал и странным взглядом смотрел на своего господина. Рука его не протянулась к топору, заткнутому за поясом. Он стоял не двигаясь, занятый какою-то думой. И вдруг, когда теплое дыхание зверя уже обдавало охотников, холоп сильною рукою оторвал от себя своего господина, приподнял, как ребенка, и швырнул прямо в объятия зверя.
Нечеловеческий крик пронесся по лесу и разом стих. На минуту Никита видел судорожно ухватившую медведя за горло руку князя, заметил полный ужаса и мольбы взгляд, кинутый на него несчастным Фомою Фомичом, потом темная масса зверя закрыла собою трепетавшее тело человека. Слышалось тихое, злобно-довольное ворчанье медведицы и глухой хруст ломаемых костей.