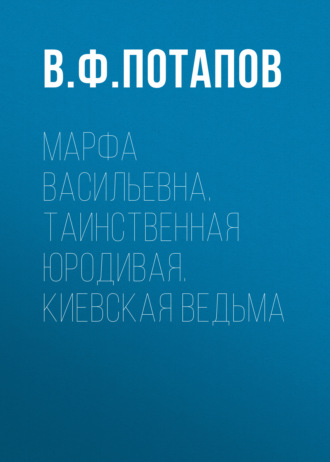 полная версия
полная версияМарфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма
Юродивая скрылась…
Процессия кончилась. Боярин и князь Василий Иванович Шуйский возвращался из дворца домой. С Шуйским вместе шел московский дворянин Валуев. Они вели вполголоса речь между собою:
– Чудеса из чудес, – говорил Валуев, – не вчера ли ты уверял нас, Василий Иванович, что на престоле Святой Руси сидит самозванец, мы тебе и поверили. Глядь, ныне сама царица встретила его как сына, а когда приехали к Вознесенскому монастырю, так она упала ему на грудь да и почала жалостно плакать, всех нас в слезы привела. Воля твоя, князь, а я хоть и на попятную, так в ту же пору…
– Велико дело, – отвечал князь, улыбнувшись, – что царица признала его своим сыном. Есть русская глупая пословица, что нужда заставит калачи есть; пойдем ко мне, соберутся все наши, и я растолкую вам все как следует. Нет, мой любезный, рано ли, поздно ли, а пожар разгорится: ныне ли, завтра ли, а Самозванцу не бывать на Руси, не сидеть долго на престоле царском и нам, коренным русским боярам, – не изгибаться пред расстригою!..
Так разговаривали приятели и поворотили в ворота дома, принадлежащего князю Шуйскому.
Вскоре за въездом царицы начались приготовления к принятию обрученной невесты Лжедимитрия, дочери Сендомирского воеводы. К сожалению, нареченный тесть русского царя не слишком спешил к месту назначения, беспрестанно останавливался, жил роскошно в городах, через которые проезжал, и беспрерывно требовал от будущего зятя денег. Наконец Марина прибыла в Москву, и вскоре совершено было бракосочетание.
Марина сидела в своем тереме вместе с любимицею – панною Юзефиною. Обе они, от нечего делать, перекатывали крупный жемчуг, который стоял перед ними в золотой чаше.
– Чудное дело, государыня, – начала Юзефина после долговременной паузы, – чудное дело! В Польше бывало на любом бале стÓит посмотреть на панну Марину: красива, весела, как птичка; а теперь – сделавшись царицею обширного царства – она как будто променяла веселость свою на венец; пропал румянец, который мог бы поспорить с любою розою… вот и вздох, еще другой!.. Недаром, знать, говорит наша пословица, что слава и почести, груды золота и царский венец не милы без милого!..
– Ах, Юзефина! – отвечала царица, вздохнувши. – Зачем ты растравляешь раны бедного сердца? Прошедшее невозвратно, моя милая, а будущее мрачно и неизвестно!..
– Будущее, государыня? – спросила Юзефина с удивлением. – Что вы хотели сказать этим? Разве будущее может грозить супруге царя русского, великого Димитрия?
– Царя русского! Великого Димитрия! – повторила Марина в раздумье. – Великого Димитрия! Если бы знали люди, как велик этот Димитрий, если бы знали они, что Димитрий, сидящий теперь на престоле русском, так же далек от царского происхождения, как земля далека от неба, если бы наконец они были уверены, подобно мне, что в муже моем, пред которым теперь все преклоняют колена, не течет кровь даже и польского дворянина!.. – Юзефина с удивлением слушала слова Марины, которая, придя в себя и желая избежать любопытства своей фаворитки, посмотрела в окно и сказала: – Посмотрите, панна, кто это стоит там, пред дворцом – вот эта женщина?
Юзефина в свою очередь поглядела в окно и отвечала:
– А! Я знаю, это сумасшедшая, которую москали называют юродивой; говорят, она очень удачно предсказывает будущее, да я этому не верю! He прикажете ли позвать ее, государыня? Это очень любопытно!..
– Пожалуй! Позовите! – отвечала Марина в раздумье.
Юзефина вышла и чрез несколько минут опять возвратилась, за нею вошла Агафья и, поклонившись царице, остановилась в углу.
– Ну, что ты мне скажешь? – спросила Марина, подавая ей золотую монету.
– Да что мне сказать тебе, государыня, разве русскую пословицу, что чрез золото льются слезы. Говорят, ты у себя, за морем, была чудо-красавица, и дородная, и румяная, а теперь смотри-ка, – что ты стала, ведь краше тебя в гроб кладут. Ты думаешь хлеб есть, а хлеб тебя ест!
Марина и Юзефина значительно переглянулись.
– Я слышала, – возразила первая, – что ты умеешь предсказывать будущее и узнавать прошедшее, – расскажи же мне, отчего я худею, чем я больна.
Юродивая улыбнулась:
– Тут не нужно быть колдуньей, чтобы сказать причину твоего горя; вот она в двух словах. В Польше ты любила человека и человек тебя любил; здесь ты полюбила золото, славу, почести, – и они не греют твоего сердца, так и выходит, матушка-царица, что ты променяла кукушку на ястреба. И об этом скучаешь!
Марина снова бросила значительный взгляд на свою фаворитку.
– Вот тебе еще денежка, скажи мне, что ожидает царя, моего мужа? Будет ли он счастлив?
– Что ожидает? Будет ли счастлив? – повторила Агафья. – А мне как знать то, что известно одному Богу? Эх! Матушка-царица! Царством править не кануны в монастыре петь, не на коне гарцевать, не плясать по-басурмански под проклятые волынки. Царь Борис Феодорыч не ему был чета, да и тот скорехонько Богу душу отдал. Прислушивайся, матушка-царица, чаще к звуку царя-колокола, того и гляди зазвонят, Москва всполошится, колокол замолкнет, и царь Димитрий прикусит язычок; берегись, матушка, будь наготове.
Марина задумалась, желая разгадать таинственные слова юродивой; между тем Юзефина обратилась к Агафье.
– Ну! А мне что ты скажешь? – спросила она.
– Да что тебе сказать? – отвечала юродивая. – В Польше жить привольнее: сюда ехала, не пришлось бы скоро опять отправиться на своих двоих; вырежь, голубушка, зараньше для дороги дубиночку!..
Глава третья. Смерть Лжедимитрия
Набат. – Мятеж в Москве. – Убиение Самозванца. – Тела Лжедимитрия и Басманова на площади. – Страшное видение. – Новый царь Василий Иоаннович Шуйский. – Иностранец Маржерет. – Юродивая.
Рано утром Москва была разбужена сильным звоном, который, начавшись в Кремле, скоро разлился по всей столице беспрерывным набатом. Народ со всех сторон бежал в Кремль; там, на площади, которую мы обыкновенно называем Царскою, собрался целый сонм московских бояр, которые вскоре, под предводительством князя Василия Ивановича Шуйского и в сопровождении воинов, двинулись ко дворцу. В народе раздавались страшные клики: «Смерть расстриге, смерть самозванцу!»
Князь Шуйский, шедший впереди с животворящим крестом, ободрял всех своим примером, убеждал не страшиться немецкой дружины, которая составляла придворную почетную стражу, и льстил всех надеждою, что они овладеют дворцом и захватят Самозванца без всякого сопротивления. Надежды Шуйского не сбылись. Немецкая дружина оказала самый редкий пример верности и самоотвержения и отступила только тогда, когда увидела себя в необходимости покориться многочисленности. Толпа с яростью и кликами: «Смерть самозванцу, смерть еретику!» Бросилась во внутренние покои Лжедимитрия… Вдруг дверь отворилась и взору толпы предстал боярин Петр Басманов с саблею в руках.
– Что вы делаете, крамольники? – вскричал он. – Прочь отсюда или вы дорого заплатите за свое вероломство!
– Подай нам расстригу! Выдай нам еретика! – загремели голоса в народе.
Басманов махнул несколько раз саблею, и человека три, окровавленные, упали к ногам его… прочие отступили. Но в то же время из толпы раздался выстрел, Басманов вскрикнул, сабля выпала из рук, он зашатался и рухнул на ступени лестницы.
– Туда тебе и дорога! – закричало несколько голосов. – Ты служил еретику, туда тебе и дорога!..
Народ бросился в покои. Остатки немецкой дружины хотели еще сопротивляться, но что могла сделать горсть наемных храбрецов против тысячи народа, оскорбленного осквернением святыни? Я говорю здесь о престоле, святость и величие которого русский человек привык почитать первым величием после Бога[25] и на котором восседал обманщик и бродяга, осквернивший его своим присутствием. Одни из немецких ратников были убиты, другие перевязаны, и толпа бежала вперед, отыскивая Лжедимитрия…
Господа историки! Позвольте мне не в укор вам, не с важностью археолога, глубоко знающего старину, но с чистосердечием, истинно русским, выставить еще одну, очень яркую черту, характеризующую Самозванца и явно доказывающую, что он никогда не мог быть истинным царевичем, которой (т. е. черты), впрочем неизвестно почему, вы не изволите или не хотели заметить: раскройте русскую историю, прочтите ее от доски до доски и вы не найдете в ней примера, который бы заставил вас покраснеть за ваших венценосцев. От глубокой древности и до наших времен – все самодержцы наши были вместе и государями и политиками, но героями во всякое время и везде!.. Поступок Самозванца, не осмелившегося явиться пред толпою оскорбленного им народа, явно доказывает его черную душу и его низкое происхождение и соединенную с оным трусость. Лжедимитрий слышал народные крики: «Смерть расстриге, смерть самозванцу, смерть еретику!» – и, однако, не решился явиться пред народом и разуверить его в противном, во-первых потому, что не имел на то средств и доказательств, во-вторых потому, что в жилах его текла кровь не Рюрика, не Мономаха, не Грозного Иоанна, но подлого бродяги, низкого мещанина, лжеца и беглого монаха; сердце его не привыкло биться ни одним благородным чувством, и он не решился, не осмелился предстать к народу.
Но я продолжаю мой рассказ. Пробежавши все покои, народ остановился в недоумении, что предпринять и на что решиться: Самозванца нигде не было! В толпе начался ропот.
Стрелец. Сгинул да пропал! Вот тебе, бабушка, Юрьев день! Ну, ребята! Недаром говорили, что этот расстрига – еретик: навстречу нам не попадался, и здесь нет как нет!
Горожанин. Да уж, брат, хоть на дне морском, а мы его отыщем. Пойдем, ребята, на половину к Маринке! Верно он там!
Голоса в толпе. Идем! Идем!
Несколько человек отделилось и последовало за горожанином. В то же время на дворе под окном послышались стоны.
Стрелец (выглядывая в окно). Сюда, ребята, вот он – еретик, здесь под окном, верно и черти не помогли, полетел из окна, да вниз, а не вверх!..
Все бросились вон из светлицы. Лжедимитрий действительно лежал под окном; услыхавши тревогу, он выскочил из окна и переломил ногу. Около него находилось несколько человек оставшейся ему верной дружины немецкой; в головах у него стояла юродивая Агафья.
– Голубчик ты мой! – говорила юродивая. – Жаль мне тебя, прыгать-то ты не мастер, – скакнул – и нога пополам! Эх! Гриша, Гриша! Говорила я тебе, молись Господу Богу; не послушался меня – вот и вышло худо! He вороне залетать в высокие хоромы, не тебе бы, бедный инок, сидеть на престоле царей московских. Прощай, Григорьюшко! Покайся хоть теперь, Господь всегда принимает молитву… – И юродивая скрылась.
Между тем толпа разъяренного народа окружала Лжедимитрия, немцы отступили, и Самозванец очутился посреди разъяренной толпы русских.
– Ну, еретик! Говори, кто ты такой? – вскричал дворянин Воейков, приставивши к груди Лжедимитрия дуло пистолета.
– Я ваш царь, я Димитрий! – отвечал расстрига. – Пощадите, спасите меня.
– Лжет он! – раздался позади них голос; все расступились, и князь Василий Иванович Шуйский, в сопровождении нескольких бояр, показался в толпе народа. – Сию минуту, – продолжал Шуйский, – мы были у царицы Марфы Феодоровны, и она торжественно отказалась от расстриги.
Лишь только Шуйский окончил эти слова, как пистолет у Воейкова задымился, раздался выстрел, и Лжедимитрий, застонавши, опрокинулся назад.
– Говори же, кто ты такой! Сознавайся! – вскричал дворянин Валуев, замахиваясь на Самозванца кистенем. – Минута, последняя минута твоя настала! Покайся, окаянный!
Лжедимитрий застонал.
– Русские люди! Народ православный! – проговорил он, едва внятным голосом. – Простите, простите меня в том, в чем я согрубил пред вами, я обманул вас, я согрешил и ложно… назвал себя… царевичем Димитрием… Сознаюсь… каюсь… минута смерти… приближается… и я… дол… жен очистить… свою душу…
Кистень свистнул в руках Валуева, и Самозванец, окровавленный, захрипел…
В это время царь-колокол ударил к ранней обедне…
Второе предсказание юродивой сбылось… Иван Великий возвестил смерть второго честолюбца…
На другой день, с раннего утра, народ толпился на Красной площади. Среди площади лежало тело Лжедимитрия и любимца его Басманова. Под мышкою Самозванца была волынка, на груди – маска, ноги его покоились на груди боярина.
– Ты был другом расстриги при его жизни, служи же ему и после смерти! – говорили проходившие мимо.
В полночь того же самого дня какой-то прохожий, застигнутый поздним временем, пробирался скорыми шагами по Красной площади… Вдруг видит он какой-то дивный зеленой огонек, который светился среди площади. Прохожий начинает всматриваться и замечает, что огонек светится в том самом месте, где лежат тела Самозванца и Басманова; прохожему приходит на мысль, что огонь принесли с собою стражники, которые, вероятно, наряжены сторожить два преступных трупа, – и он идет ближе к роковому месту. Ему слышатся звуки музыки, доносящиеся до его слуха от того же самого места, где видится огонек. Прохожий останавливается в недоумении, потом снова идет, приближается… и видение и звуки исчезают… Все темно, все мрачно! Прохожий бежит без оглядки прочь. Снова останавливается, снова видит тот же огонек, слышит те же самые звуки… Идет ближе, и по-прежнему все исчезает…
На следующий день по Москве разнеслась молва о страшном видении и о том, что на престол царский избран боярин и князь Василий Иванович Шуйский!..
Из дворца шло несколько человек бояр, и между ними находился какой-то незнакомец в платье особенного покроя, отличавшемся богатством и изысканностью: это был капитан Маржерет, служивший при Борисе Годунове и Лжедимитрии в немецкой дружине. Между ними происходил довольно жаркой разговор:
1-й боярин (Маржерету). Ты иноземец, капитан, и не тебе судить о поступках русского православного народа: ты служил Борису за деньги, мы служили ему по присяге; Годунов погиб, говоришь ты, но разве мы виновны в его смерти?.. Самозванец прибавил тебе жалованья, ты и ему начал служить, опять-таки за деньги!.. А мы, – боярин вздохнул, – видит Бог! Мы приняли его на престол наших государей, желая отчизне спокойствия, мы принимали его как сына покойного нашего законного царя… Ошиблись мы! Кто же не ошибается?.. Да за то мы тотчас же и поправили свою ошибку?..
2-й боярин. Истинно так! Где теперь Самозванец? И прах его развеяли по полю чистому.
3-й боярин. He допустили еретика посрамить нашу веру православную, нашу матушку святую Русь. He владеть папистам храмами нашими, не забываться польской шляхте перед коренными русскими боярами!
Маржерет. Нет, бояре! Я не слуга Шуйскому, пора домой!..
В это время явилась Агафья и, обращаясь к Маржерету, сказала на последние слова его:
– Пора, пора! Дядя, убирайся себе по добру, пока с честью провожают, а то, пожалуй, выпроводят и не больно ласково. Да не езди и домой-то, голубчик, как бы там не было худа: ведь ты чай за морем-то накуролесил; пришло худо, и давай Бог ноги!..
Маржерет схватился за саблю.
1-й боярин (останавливая его). И как тебе не стыдно, капитан, браться за оружие, и против кого, против женщины (тихо): она юродивая!..
Маржерет улыбнулся; Агафья, как будто ничего не замечая, продолжала:
– Еще то надобно сказать, есть ли у тебя и родина-то? Ведь вы, мои голубчики, бездомовные, заморские синички. Ну да ведь белый свет велик еще, не там, так в другом месте наймешься в работники, ведь тебе, голубчик мой, кто ни поп, то батька!.. Лишь бы не брал даром денежек из нашей казны…
2-й боярин. Молчи, Агафья, непригоже так обходиться с гостями иноземными!
Агафья. С гостями иноземными! А кто их зовет в гости? По чутью, словно волки слышат, где много золота. Эх, бояре, бояре! Стыд и срам! В старину этого не было, не нуждалась матушка святая Русь в наемщиках…
Маржерет (вспыхнул). В наемщиках?
Агафья. А кто же ты, мой голубчик? Вестимо наемщик! Сегодня служишь русскому государю за деньги, завтра татарин даст тебе более, ты пойдешь к нему в службу и с татарином придешь грабить святую Русь! Прощайте, бояре!..
Глава четвертая. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский
Торжественный въезд князя Скопина-Шуйского в Москву. – Екатерина Шуйская. – Ее замыслы. – Юродивая. – Пир. – Заздравный кубок. – Кончина Скопина-Шуйского. – Опять юродивая. – Ее последнее предсказание.
Москва белокаменная готовила торжественный прием князю Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому: юный герой, очистивший землю Русскую от поляков, разгромивший врагов отечества, въезжал в столицу увенчанный лаврами, которыми бы мог гордиться старый полководец, и все спешили сретать спасителя родины. Между тем злоба не дремала и готовила ему, великому герою, кубок, отравленный ядом зависти и ненависти!.. Дух злобы избрал орудием презренного замысла честолюбивую женщину, дочь известного любимца Грозного, Малюты Скуратова, жену князя Димитрия Ивановича Шуйского, родного брата царя Василия.
Утром того самого дня, когда назначен был въезд в столицу князя Скопина-Шуйского, Екатерина, жена Димитрия Шуйского, сидела в своей светлице и задумчиво любовалась сквозь узорчатое разноцветное окно золотыми главами церквей кремлевских. Дверь отворилась, и супруг ее Димитрий, в богатом полукафтанье и роскошной парчовой ферязи, вошел в светлицу.
– Прощай, Екатерина, – сказал он, – я совсем готов и сей час отправляюсь во дворец. Я думаю, скоро начнется торжество, то-то будет хлопот!..
– И есть из чего хлопотать! – возразила Екатерина презрительно. – Иди, ненаглядный мой, беги встречать племянника, кланяйся в пояс… Князь Димитрий! Я не узнаю тебя… Ты, брат царя, первый вельможа, наследник престола, с таким раболепством, с таким унижением, бегаешь, суетишься… и для чего!..
– Как для чего? – спросил Димитрий. – Да разве ты не знаешь, Екатерина, что сделал для России князь Михаил Васильевич?.. Разве нам не слава, что в родстве Шуйских есть такой герой?.. Ему следует носить венец Мономаха, а не мне, Екатерина!..
– Ему! Ему, говоришь ты? – возразила злая женщина. – Тому мальчику, которого я носила на руках своих, носить венец Мономаха? Не бывать этому, я не хочу, я не допущу!..
Шуйский улыбнулся.
– Ты не хочешь, ты не допустишь? – сказал он. – Да тебя об этом и не спросят, Екатерина. Полно, жена, сумасшествовать, выкинь из головы свои сумасбродные мысли; не бабье дело судить о том, кому быть царем и кому не бывать… Прощай! – Шуйский вышел, и Екатерина презрительно посмотрела ему вслед.
– Слабый муж, глупый князь! – сказала она, покачав головою. – В то время как корона так близка к нему, он хладнокровно готов уступить ее племяннику; а я что? Нет, князь Димитрий, в то время как ты будешь бездействовать, Екатерина не уснет спокойно ночи, не будет иметь ни одной отрадной минуты, пока не достигнет исполнения своего заветного замысла – не будет царицею земли Русской!..
– Я скажу тебе лучше, Екатеринушка, когда ты успокоишься, – возразила юродивая, входя при последних словах княгини. – Мы так уж созданы, с тем рождены, чтобы трудиться, хлопотать, мучиться всю жизнь, всего искать и ничем не быть довольными… Вот я примерно – нищая, желала бы иметь много золота: дай мне целые горы богатств, я, пожалуй, захочу быть на твоем месте… Ты, Екатеринушка, и богата, и счастлива, и зовут тебя все княгинею, и все тебе в пояс кланяются, – так нет! Всё мало, небось быть бы царицею хотелось. Эх, боярыня, боярыня! Пустое ты затеваешь! Дело другое, если бы ты знала, что проживешь еще сто лет, ну так нечто бы, стоило похлопотать, а то, пожалуй, вместо престола выхлопочешь себе три аршина земли и тому будешь радехонька. Вот, Екатеринушка, когда ты будешь довольна! Вот когда ты будешь покойна!
– Молчи, сумасшедшая, или поди вон! – вскричала Екатерина грозно.
– Сумасшедшая! – повторила Агафья. – Сумасшедшая! Полно так ли, боярыня? Будто тут говорит мое сумасшествие, а не твоя совесть? Выкинь, Екатерина, из головы свои мысли, молись лучше Господу, не принимай на свою душу тяжкого греха. Ты завидуешь князю Михаилу Васильевичу, а забыла то, что юный племянник твой проливал кровь свою за отечество, а ты забыла то, что сама носила его на руках своих, была ему матерью, лелеяла, любила… Княгиня! Рука твоя не подымется на погибель своего воспитанника, своего любимца! Брось, выкинь из головы злые мысли и будь по-прежнему к нему ласкова!..
Екатерина зарыдала, и в эту минуту, казалось, разрушились все ее замыслы. Но в то же время на Иване Великом заблаговестили в царь-колокол, вскоре во всей Москве раздался торжественный звон – князь Скопин-Шуйский въезжал в Кремль… Народ бежал за ним толпами, и в воздухе гремели восторженные клики: «Да здравствует князь Михаил Васильевич!»
Княгиня побледнела; с негодованием на самую себя, отерла она слезы, подбежала к окну, отворила его и в сильном волнении смотрела на происходившее… Юродивая наблюдала за всеми ее движениями.
«Да здравствует князь Михаил Васильевич, ура!» – раздались снова клики народные, и Екатерина зарыдала снова, но в это время причиною слез ее было уже не сладостное воспоминание прошедшего, а душевная злоба, которая разразилась, со всеми своими ужасами, в следующих словах: «Нет! – вскричала она. – Нет! Князь Михаил Васильевич, ты ранняя птичка, и царский венец тебе будет не к лицу! Смотри! Как он важно, гордо едет, с каким чувством собственного достоинства кланяется народу!..»
«Да здравствует князь Михаил Васильевич, ура!» – раздалось в третий раз, и Екатерина в изнеможении опустилась в стоявшие близ окна кресла.
«Клянусь тенью и прахом родителя моего, – прошипела она змеиным голосом, – минуты твои, князь Михаил Васильевич, изочтены!..»
В это время Димитрий Шуйский вошел в светлицу.
– Ну, – сказал он, задыхаясь и отирая пот, градом катившийся по лицу его, – отродясь не видал я такого торжества! Спасибо народу русскому, спасибо добрым москвичам – умели принять гостя дорогого! Как гаркнут: «Да здравствует князь Михаил Васильевич, ура!» – так сердце выскочить хочет… Согрешил, признаться, и я погорланил, любо-дорого! А уж честь-то, честь-то какая – сам царь встретил его на крыльце, говорил ему такие ласковые речи, что раздумаешься!..
Димитрий отер выкатившуюся слезу. Екатерина задыхалась под бременем злобного отчаяния, ломала руки и наконец сказала:
– Глупый народ! Толпа безумцев! Кричит неведомо что, и ей простительно! Ты, князь Димитрий! Чего ждешь от своего героя-племянника? Быть может, он пожалует тебя своею милостью…
– И вестимо так! – отвечал простодушно Шуйский. – Князь Михаил Васильевич радушно, ласково разговаривал со мною, неоднократно спрашивал о тебе…
– Неужли? – произнесла Екатерина.
– Верь мне, – отвечал Шуйский, – называл тебя своею второю матерью, говорил, что он всегда помнит и никогда не забудет тебя…
Лицо Екатерины прояснилось.
– И даже, – продолжал Шуйский, – не отказался осчастливить нас своим посещением, не погнушался нашим хлебом-солью, и завтра, смотри же, не забудь, жена, завтра он будет у нас кушать, похлопочи, Екатерина! Такого гостя надобно принять как следует…
– Осчастливить… – проговорила княгиня в раздумье. – Не погнушался… – И лицо ее искривилось от злости. Потом на устах ее явилась какая-то неопределенная улыбка, и она поспешно отвечала: – Да! Я похлопочу, князь Димитрий, я постараюсь угостить дорогого гостя!..
– Вот за это спасибо, это по-нашему! – говорил Шуйский, обнимая жену.
– Князь Димитрий, князь Димитрий! – произнесла юродивая, подошедши к супругам. – Если бы ты мог видеть сердце своей супруги, ты бы задушил ее в своих объятиях!..
– А! Агафьюшка! Это ты? Вот жена даст тебе что-нибудь, а я пойду да отдохну, – сказал Шуйский и вышел.
Тогда юродивая обратилась к Екатерине.
– Княгиня! – сказала она. – Еще раз повторяю тебе, оставь свои замыслы!..
– Прочь! – вскричала Екатерина. – Я знаю, что делаю, и до тех пор не оставлю своего намерения, пока не приведу его в исполнение…
– То, к чему стремишься ты, никогда не исполнится. Судьбы Всевышнего неисповедимы, и если уже дух злобы овладел твоим сердцем, то помни, княгиня, слова мои: завтра, в то время как царь-колокол ударит к вечерней молитве, закатится юное, но светлое солнце России… И в это же время, Екатерина, пробьет последний час твой!.. Екатерину ждет не престол, а могила!..
В доме князя Димитрия Шуйского готовился пир для принятия дорогого гостя. В большой парадной светлице был накрыт стол, серебряная посуда, золотые кубки, дорогие кушанья и заморские вина – все было приготовлено; много гостей уже собралось в светлицу и только ожидали главного виновника торжества. Наконец князь Михаил Васильевич подъехал к крыльцу на белом коне; рядом с ним на вороном жеребце гарцевал шведский воевода Делагарди…
Князь Димитрий Шуйский и несколько бояр выбежали встречать героя, который соскочил с лошади и, приветствуемый хозяином, уже хотел идти на крыльцо, как вдруг Агафья, вывернувшись из-за угла, остановила его.




