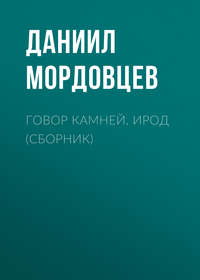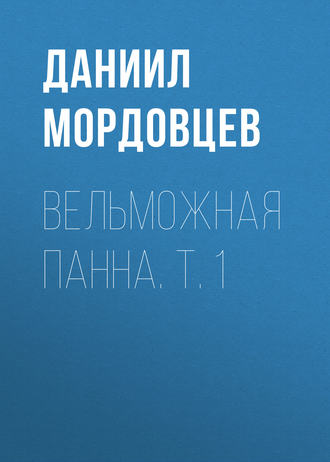 полная версия
полная версияВельможная панна. Т. 1
– Ах, Левушка, – сказала императрица, – ты все тем же остался, чем был в молодости… Одна я уж не та.
– Ну, мне, дураку, не с чего меняться… Точно, матушка-государыня, шутом я был, шутом и остался.
Как «шута» Екатерина сама характеризует его в своих «Записках», изданных в Англии.
«Это был человек самый странный, какого когда-либо я знала, – говорит она в своих знаменитых мемуарах. – Никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был шут до мозга костей, и если бы он не родился богатым, то мог бы жить и наживать деньги своим необыкновенным комическим талантом. Он был вовсе не глуп, многому наслышался, но все слышанное чрезвычайно оригинально располагалось в голове его. Он мог распространяться в рассуждениях обо всяком искусстве, как ему вздумается, употреблял технические термины, говорил непрерывно четверть часа и более, но ни он сам, ни его слушатели не понимали ни слова из его речи, хотя она текла, как по маслу, и обыкновенно это оканчивалось тем, что все общество разражалось смехом. Так, например, он говорил про историю, что не любит истории, в которой есть истории, и что для него, чтобы история была хороша, надо, чтобы в ней не было историй, но что, впрочем, история произошла от Феба. Он также бывал неподражаем, когда принимался говорить о политике; самые серьезные люди не могли удержаться от смеха».
Шутовство свое он практиковал с самого начала службы при дворе.
Когда он был только камер-юнкером и состоял при великом князе Петре Федоровиче, Екатерина таким образом наказала его за шутовство.
«Однажды, – говорит она, – я застала его в своем кабинете; он разлегся на диване и распевал какую-то песню, в которой не было человеческого смысла. Видя такую невежливость, я тотчас вышла из кабинета, заперла за собою дверь и отправилась к его невестке Анне Никитишне, урожденной Румянцевой, которой сказала, что непременно следует достать порядочный пучок крапивы, высечь этого человека за его сумасбродное поведение и выучить его уважать нас. Нарышкина охотно согласилась; мы велели принести розог, обвязанных крапивою, взяли с собою одну из моих женщин, вдову Татьяну Юрьевну, и все три пошли в мой кабинет. Нарышкин лежал на прежнем месте и во все горло распевал свою песню. Увидев нас, он хотел убежать, но мы успели настрекать ему руки и лицо, так что он дня два или три должен был оставаться в своей комнате, не смея даже никому сказать, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей его невежливости, при малейшей неприятности, которую он нам сделает, мы возобновим наше наказание, так как иначе не было с ним никаких средств…»
– Так вот, Лев Александрович, и поезжай ты к королю в Канев, – продолжала императрица после грустного воспоминания о своей молодости, – и скажи ему то, что придумал так искусно Александр Андреевич, – указала она на Безбородко. – Ты и сам сумеешь найтись, что сказать… Ведь когда-то вы вместе с ним дурачились у меня и дурачили других: он поймет тебя.
– Не поймет, матушка, – покачал головою Нарышкин.
– Почему? – удивилась Екатерина.
– Потому не учен, как я: твоей крапивы не пробовал.
– А потерять Белоруссию, это хуже крапивы, – заметил Дмитриев-Мамонов.
Императрица улыбкой одобрила шутку своего любимца.
– Так я уверена, Лев Александрович, что ты облегчишь мне неприятное свидание с королем польским, – продолжала Екатерина. – Не забудь, что мне предстоит более серьезное свидание еще с императором австрийским.
– Особливо, ваше величество, ввиду наших негоций с Турциею, – вставил Безбородко.
– Об этом-то я и забочусь: при войне нашей с турками дружба Иосифа стоит целых армий. Об этом мне пишет и Григорий Александрович, – продолжала императрица. – Не купи дом, купи соседа, так, кажется, говорится по-русски.
– Так, так, матушка, – подтвердил Нарышкин. – Турок-то воюючи с тобой все будет оглядываться, не стоит ли-де у него за спиной Иосиф с крапивой.
Государыня, казалось, припомнила что-то.
– Да, – заговорила она вскоре, – только ты, Лев Александрович, постарайся в беседе твоей с королем не касаться политики.
– Слушаю, матушка-государыня.
– Я знаю, – продолжала императрица, – он непременно заговорит о гайдамаках, что учинили кровопролитие в Умани и в других городах польской Украины, коих я усмирила через Кречетникова. Я уверена, что будет он повторять нелепые басни, будто я одобрила замыслы Мельхиседека против поляков.
– А я, матушка, как только он заговорит о политике, тотчас волчка пущать стану, я и волчок возьму с собой, – невозмутимо болтал Левушка.
– Знаю, знаю, ты и при мне, и при всех министрах иностранных дворов пускал своего волчка: тебя этому не учить.
– Точно, матушка-государыня, ученого учить только портить.
Государыня уже его не слушала и обратилась к Дмитриеву-Мамонову, как новичку в государственных делах:
– А то что еще распускали про этих головорезов-гайдамак: будто бы я послала им целый обоз ножей под видом вяленой рыбы тарани, чтобы этими ножами резать поляков и ксендзов.
– Какая гнусность! – невольно вырвалось у молодого царедворца. – И Станислав-Август этому верит?
– Не знаю. Но что многие сему верят, это я знаю.
– Но еще гнуснее то, ваше величество, что этому верят легкомысленные головы в иностранных землях, – заметил Безбородко. – Гнусность сия потому глубоко пустила корни в сознании легковерных, что ножи эти, как достоверно известно, фанатическим духовенством были освящены при храме одного монастыря и окроплены святою водой.
По окончании доклада Нарышкин в тот же день выехал в Канев.
В Каневе он оставался недолго, так что уже на пятый день воротился в Киев и доложил государыне об удачном исполнении возложенного на него поручения. Воротился он с королевским подарком, с богатой табакеркой, усыпанной крупными бриллиантами.
– О политике, матушка, я ему не давал и пикнуть, – докладывал Левушка. – Чуть он за политику, я сейчас за волчка и давай гонять его перед королевским величеством и перед ясновельможными «панами Рады».
– И сие его не франировало? – спрашивала императрица.
– Нисколько, матушка-государыня, потому я его все обнадеживал.
– Чем это?
– Да я все твердил ему, что наша-де всемилостивейшая государыня, императрица всероссийская, неизменно продолжает питать к его королевскому величеству самые матерние чувства.
– Это хорошо, Левушка, что ты так успокаивал его подозрительность. Но что ж делают там, в Каневе, так долго?
– Да они там, вельможные паны, все банкетуют да на охоту возят своего «пана круля». А охоты там богатые.
– Большая свита с ним?
– Вся знать, которая на его стороне. Да и недешево это ему стоит. Его банкиры сказывали мне, что на одну поездку в Канев и на встречу с тобою он уже просадил три миллиона.
– Ох, – покачала головою государыня, – за все это придется мне же расплачиваться из моей казны!
– Ну, это пустое, матушка-государыня… Вспомни только Державина:
Богатая Сибирь,Наклонившись над столами,Рассыпала по нимИ злато и сребро.– Будет чем расплачиваться за королевские шалости, – продолжал Нарышкин. – Зато кого я привез к тебе, матушка, из Канева, вместо короля, на утешение и прославление твоего величия!
– Кого же это?
– Человечка некоего… Я тебе его завтра покажу. А ты вели завтра быть полному куртагу, чтоб собрались все твои гости: и Кобенцель, и Фитц-Герберт, и Сегюр, и Ангальт, и принц де Линь…
– Что упустил из клетки свою невестку, княжну Масальскую.
– Прекрасную Елену, за которую еще греки с троянцами дрались.
– Кто же твой «человечек»? – любопытствовала Екатерина.
– Увидишь завтра… Сей «человечек» покажет своим гостям барам, что такое наша Россия и благодетельница ее народов, великая и мудрая Екатерина… Чего не могли сделать ни Польша, ни Австрия, ни вся Европа, то сделала великая Екатерина мановением своей державной руки!
– Ах, Левушка, ты уж всегда расхваливаешь меня превыше меры!
– Не из ласкательства, матушка, не из ласкательства, ты сама это знаешь.
– Но кто же этот «человечек»? – недоумевала императрица.
– Завтра, завтра на куртаге увидишь его.
Глава третья. «Невольницкий плач»
Оказалось, что Нарышкин вывез из Канева слепого кобзаря, который распевал на базаре украинские «думы», из коих особенно поразила русского сановника глубоко поэтическая «дума» о крымской неволе. Крым, еще так недавно полный ужасов мировой торговли невольниками и особенно юными невольницами из Украины; Крым, невольничьи рынки которого несколько лет тому назад оглашались воплями «бранок», девушек и детей, увозимых в неволю из Украины для продажи во все серали Турции, Анатолии и даже Египта и Аравии; Крым, который поставлял юных невольниц на генуэзских кораблях в гордую Венецию на «невольничью набережную», «riva degli schiavoni»; этот Крым вдруг превратился в царство свободы и безопасности.
И вот, когда куртаг был в полном сборе, когда роскошная зала дворца блистала раззолоченными кафтанами иностранных послов и русских вельмож, и все с любопытством ожидали какой-нибудь новой, небывалой выходки веселого обер-шталмейстера Екатерины, в этом блестящем царственном собрании появляется Нарышкин в сопровождении седоусого слепца с таким же седым чубом и хорошенького черноглазого загорелого мальчика, его «поводыря-мехоноши».
Взоры всех выразили и крайнее изумление и ожидание… Вот-вот Нарышкин разразится чем-нибудь крайне шутовским… Но Лев Александрович с необычайной серьезностью приблизился к императрице и торжественно проговорил:
– Позвольте, всемилостивейшая государыня, представить вам верноподданного вашего императорского величества, сего старца-слепца. В молодости, когда он был еще запорожским казаком, его взяли в плен крымские татары и продали в неволю на рынке города Кафы. Много лет он работал на галерах – «каторгах» на Черном море, где его вместе с прочими невольниками бесчеловечно истязали галерные приставники. А потом, за попытку бежать с каторги, ему выкололи глаза. Много, много долгих лет он томился в тяжкой неволе, и только когда победоносные войска вашего императорского величества покорили Крым, сей старец получил свободу и в каждодневных и ежечасных молитвах своих умоляет Творца о здравии и долгоденствии великой Екатерины, матери отечества.
Взоры всех обратились к императрице, на глазах которой блистали слезы.
– Благодарю тебя, Лев Александрович, за то, что ты доставил мне удовольствие видеть несчастного, горькая участь которого хоть к концу дней его облегчена победами моих героев, – растроганно сказала она.
– Дозвольте же ему, всемилостивейшая государыня, поведать пред вами и пред сим блестящим сонмом ваших гостей об его личных страданиях в плену и страданиях его сотоварищей по каторге, – продолжал Нарышкин.
– Я охотно послушаю повесть о его злоключениях, – сказала императрица, – и надеюсь на благосклонное ваше внимание, господа, – обвела она их взором.
Все безмолвно наклонили низко-низко свои головы.
– Садись же, старче божий, и проплачь пред государыней и ее высокими гостями твой невольницкий плач, – сказал Нарышкин кобзарю, – и вы, ваше сиятельство, – обратился он к Безбородко, – яко природный украинец, объясняйте государыне и высоким гостям содержание «плача» и отдельные непонятные слова, как вы уже изволили изъявить мне на то свое согласие.
Кобзарь, обводя собрание незрячими очами, тихо опустился на пол, ибо за много лет неволи привык сидеть по-восточному, поджав ноги, и стал тихо настраивать свою бандуру. Около него поместился и его «поводырь-мехоноша».
Тихо-тихо забренчали струны. Все молчало. Казалось, струны начали говорить что-то горькое, плачущее, точно откуда-то ветерок доносил чей-то далекий стон и тихий плач, глубоко безнадежный.
– Гэ-эй-гей-гей! – послышался старческий голос, и голова слепца тихо качалась, точно от нестерпимой боли. – Гэй-эй-гей-гей!
Що на Чорному морю,На тому билому каменю,У потреби царський,У громади козацький,Много там вийска обнажено,У три ряды бидных, безчастных невольникив посажено,По два та по три до купы посковано,По двае кайданины на ноги покладено,Сырою сырыцею назад руки повязано…– Гэ-эй-гей-гей! – Назад руки повязано…Голос умолк, но живые струны продолжали плакать и плакать… Все собрание было охвачено глубоким волнением: ничего подобного никто не слыхал прежде.
А Безбородко под тихий говор струн так же тихо передавал содержание пропетых строф:
– На Черном море, на белом камне то есть. На прибрежных скалах, в работе-каторге царской, царем песня называет султана, казацкая громада… Все невольники обнажены, по два и по три скованы вместе и у каждого по двое кандалов на ногах, и руки связаны назад сыромятными ремнями…
– Но вот они посажены на галеры и работают в Великий, Светлый праздник.
– Гэ-эй-гей-гей! – опять слышится тихий голос, тихий плач и скорбное покачиванье старческой головы…
Тут струны разом зарокотали… Это был уже не плач, а вопль, раздирающий душу:
Ой, у Святу-ж то було недилю, не сизии орлы заклекотали,Як то бидни безчастни невольники у тяжкий неволизаплакали,На колини упадали,У гору руки пийдимали,Господа милосердного прохали та благали:«Подай нам, Господи, з неба дрибен дощик,А з низу буйный витер,Хочай-бы чи не встала по Чорному морю быстрая хвили,Хочай-бы чи не повырывала якорив з турецькой каторги,Да вже-ж нам ся турецька, бусурманьска каторга надоила,Кайданив зализо ноги поврывало,Биле тило казацьке молодецьке коло жовтой костипошмугляло!..»– Гэ-эй-гей-гей! – опять тихо плачет старческий голос, как бы ослабевший от взрыва отчаяния. – Гэ-эй-гей-гей!
– О боже! Это невыносимо! – простонал чей-то молодой женский голос.
Императрица оглянулась. Это плакала одна из ее молоденьких фрейлин, родом украинка, закрыв руками побледневшее личико, по которому катились слезы.
– Бедная девочка, утешься: теперь этого уже не будет, – тихо сказала государыня.
Но это как бы совсем не касалось слепого певца: он уже привык к подобным женским рыданиям под его бандуру и продолжал торопливым, дрожащим речитативом:
Паша турецький, бусурменьский,Недовирок християньский,По галери вин похожае.Вин сам добре тее зачувае,На слуги свои, на турки-яничары, за-зла гукае:«Кажу я вам, турки-яничары,Из ряду до ряду захожайте,По три пучки тернины и червоной таволги набирайте,Бидного невольника по трычи в одним мисцизатикайте!»То ти слуги, турки-янычары, добре дбалиИз ряду до ряду захожали,По три пучки тернины и червоной таволги у рукинабиралиТричи в один мисци бидного невольника затикали.Тило биле казацьке молодецьке коло жовтой костиоббивали,Кровь християнську неповинно проливали…– Гэ-эй-гей-гей! – И опять слышится только тихий говор струн да тихое объяснение Безбородко.
– Oh, c'est terriblement! – качает головою Сегюр, обращаясь к Нарышкину.
– Oui, monsieur, le compte: c'est quelque chose effraiyante, – отвечает тот.
Молоденькая фрейлина-украинка продолжала плакать.
– Плачь, дитя, – нежно говорит ей императрица, – слезы сострадания – это хорошие, святые слезы.
Снова нервно зарокотали струны, а за ними как бы угрожающий голос выговаривал:
Стали невольники на соби кровь христианьскузобичати,Стали землю турецьку, виру бусурманьскуклясти-проклинати:Ты, земля турецька, вира бусурманьска!Ты, розлука христианьска:Не одного ты розлучила мужа з жоною,Брата з сестрою,Диток маленьких з отцем и маткою…Голос и струны вдруг оборвались, так что от неожиданности, при глубочайшем внимании, многие вздрогнули.
Кобзарь вдруг встал с полу и выпрямился. Все старческое и слепые глаза его обратились вверх, точно на молитву.
И вдруг голосом, полным трогательной мольбы и глубокой скорби, певец торжественно запел, ударяя по басовым струнам:
Вызволь, Господи, всих бидных невольникивЗ тяжкой неволи турецькойЗ каторги бусурманьскойНа тихи воды,На ясны зори,У край веселый,У мир хрещеный,На святоруський берег,В города христианьски!Затем, обведя собрание слепыми очами и кланяясь в сторону императрицы, кобзарь торжественно, с шумным рокотом струн возгласил:
Даруй, Боже, милости вашей,Царському пресвитлому величеству,И всему высокому паньствуНа многая литаДо конца свита!С последним ударом струн ропот одобрения прошел по всему собранию, а императрица с глубоким волнением проговорила:
– О, если бы Всевышний помог мне, хотя в будущем, при отходе в загробный мир, осушить слезы моих подданных!
* * *Наконец все было готово к дальнейшему путешествию. Последние убранства и украшения на галерах приведены к концу. Особенной роскошью и блеском отличались галеры «Днепр», на которой должна была плыть сама императрица, и «Десна», предназначавшаяся под общую столовую царственного поезда. Галеру Екатерины «Днепр» по ее великолепию принц де Линь сравнивает с кораблем Клеопатры, на котором она сопровождала своего возлюбленного Антония на последнее его роковое сражение с Октавианом при Акциуме. Сам свекор прекрасной Елены, «вельможной панны», следовал за царственным поездом в качестве, как он выражается, «дипломатического жокея», потом отделился от флотилии недалеко от Канева и в «запорожской пироге» («чайке») поспешил в Канев, чтоб предупредить Станислава-Августа о приближении Екатерины.
Двадцать второе апреля назначено было днем отплытия из Киева. Весь Днепр был как бы запружен целой флотилией галер и других судов в числе 80, сопровождавших царскую галеру, и другими судами и лодками, на которых, казалось, весь Киев высыпал провожать царственную хозяйку для обозрения ею своего «маленького хозяйства».
Ничего подобного не видел Днепр-Славутич с тех пор, как по нему проплывали варяги на службу Цареграду и императорам Византии, и до тех часов, когда чубатые «лыцари» запорожцы на своих «дубах» и «чайках» по этому же Днепру выплывали в Черное море, чтобы «окуривать мушкетным дымом» стены этого Цареграда, уже турецкого Стамбула.
Под гром пушек отплыла флотилия с 3 тысячами матросов, нарядно и красиво одетых. Поезд открывали семь нарядных галер, расписанных и убранных с восточною роскошью, комнаты которых и каюты, устроенные на палубах, блистали золотом и дорогими шелками. Одна из галер, которая следовала за царскою и за «Десною», назначена была Кобенцелю и Фиц-Герберту, другая – Сегюру и де Линю, прочие – Потемкину, который должен был встретить поезд, а также его племянникам, а равно Дмитриеву-Мамонову, Нарышкину, министрам, Храповицкому и т. д. Кабинеты, диваны, штофные занавески, письменные столы из красного дерева, музыка на каждой галере, и все это там, на той реке, по которой плавали только казацкие «човны» да развевались по ветру чубы казацкие молодецкие…
Южная весна блистала чарующим разноцветом. По обеим сторонам Днепра, то там, то здесь, сады, осыпанные как бы розоватым снегом, роскошным цветением яблонь, груш, слив, персиков и абрикосов. Темные леса и перелески, балки и овраги, звенящие голосами всевозможной птицы, заливающиеся в кустах соловьи, звонко курлыкающие по лугам и заводям журавли, высвистывающие и сверкающие на солнце золотом оперения иволги, нежно воркующие горлинки, реющие в воздухе и перекрещивающиеся словно пули в перестрелке стрижи, высоко-высоко плавающие в воздухе с металлическим клекотом орлы, великаны птицы, бабы-пеликаны, плавно шагающие по молодым порослям камышей, дикие гуси и утки стаями – все это ликовало, справляя праздник возрожденной в чарах весны.
Картины сменяются картинами, волшебные чары другими чарами…
Даже трезвый государственный ум Екатерины очарован до вдохновения, до поэтического экстаза, и ее перо, больше привыкшее подписывать указы и смертные приговоры, хотя с прискорбием горькой необходимости, теперь под этими чарами весны и природы перо ее, словно перо юной институтки, выводит на бумаге такие чувствительные строки:
Днесь шумят потоки, тихо ветры веют,Прешироки реки вод плескать не смеют,И струи вод свежих в поле льют,Сладко наполняя землю растворенну,Естество прекрасно обновят,Обольщенны очи, зрящи на вселенну,Нежны чувства те увеселят…Я куда ни погляжу –Там утехи нахожу!..Там поют соловьи,Множа радости мои!..Хоть поэзией тут и не пахнет, а все же виден порыв выразить поэтично свои «утехи» и «радости»…
А эти «утехи» и «радости» еще более «множил» ловкий «Грицько Нечоса», как называли в Малороссии Григория Александровича Потемкина за его припудренный, пышный парик.
Желая лицом показать свой товар, то есть управляемый им край, он заранее настроил по берегам Днепра цветущие села, хутора из размалеванного картона!.. Издали все это казалось так красиво, живописно, веселило, радовало взор, утешало сердце коронованной «хозяйки» и ее знатных гостей, которые, как и сама одураченная «хозяйка», принимали эти театральные кулисы за действительность, за села, деревни, хутора! Мало того, Потемкин тайно приказал всем местным властям, чтоб они сгоняли на берег Днепра празднично разряженное население, которое должно было пригонять туда же свой скот, дабы с галер видели все это богатство, все довольство населения!.. Тут были целые буколические картины во вкусе того романтического, слащавого века, когда, отодрав на конюшне «холопов» и «холопок», наряжали их потом в буколических «пастушков» и «пастушек» и велели им плясать перед гостями: играющие на свирелях «пастушки», ликующие «пастушки», пляшущие хороводы деревенской молодежи… рай да и только! И Екатерина, столь мило обманываемая, хотя, быть может, и подозревавшая нечто, хотя далеко не все, имела некоторое, в сущности, фальшивое основание восклицать:
Я куда ни погляжу,Там утехи нахожу!..А по ночам все эти картонные декорации убирались, и села с деревнями и хуторами переносились дальше и там размещались для разнообразия уж несколько иначе, но играющие на свирелях «пастушки», ликующие «пастушки» и веселые хороводы являлись и на новых местах, в ином, еще более живописном размещении… Как же было не радоваться, не гордиться «хозяйке»!
А тут и сама природа как бы подделывается под ухищрения продувного «Грицька Нечосы», весна, и жаворонки, и заливающиеся соловьи…
Там поют соловьи,Множа радости мои!..Недаром у Храповицкого в «Дневнике» записано: «Быв на галере, сказал, что непрестанно потею».
– И я также, – сказала императрица.
Далее: «Говорено о благорастворенном воздухе и о теплоте климата».
– Жаль, что не тут построен Петербург, – продолжала Екатерина, – ибо, проезжая сии места, воображаются времена Владимира святого, в кои много было обитателей в здешних странах. Теперь нет татар, и турки не те…
Раз под вечер после чудного дня до слуха императрицы донеслось стройное хоровое пение, раздававшееся на той галере, на которой ехал граф Безбородко с Нарышкиным, Дмитриевым-Мамоновым и другими. Государыня прислушалась и чутким ухом уловила некоторые слова незнакомой песни, далеко разносившейся по Днепру:
Ой у лузи та и при берези червона калина,Ой и огородила молода козачка козацького сына…Голоса были чудные, на подбор, да и мелодия песни проникала в душу.
– Кто это так несказанно изрядно поет? – спросила Екатерина случайно бывшего около нее Храповицкого.
– Это матросы на галере графа Безбородко, государыня, – отвечал последний. – Хохлы – прирожденные певцы, подобно итальянцам, и граф заставил их петь, чтобы иностранные послы знали, на что способны малороссияне.
– Да, малороссияне точно от природы певучий народ, – сказала императрица. – Вон и Разумовский Алексей Григорьевич, из простых пастухов, голосом своим достиг важнейших, чуть не царских в государстве степеней и графского достоинства, удостоенный окончить жизнь в построенном для него Аничковом дворце, – заключила государыня, прислушиваясь к чудному пению «хохлов».
А с той галеры продолжало доноситься по воде:
О, не развивайся, суховерхий дубе, –Завтра мороз буде.– Я морозу та и не боюся, –Веници разивьюся.О, и не женися, молодой козаче, –Скоро поход буде.– Я походу та и не боюся,Скоро оженюся!– Вон какие храбрецы! – улыбнулась императрица, прислушиваясь к словам песни. – А пение дивное… Вон и тот слепой кобзарь в Киеве необычайно поразил меня и послов своею прекрасною «думою».
Между тем эта песня сменилась другою. И слова не те, и мелодия не та. Эта, кажется, еще более захватывает за душу:
Ой и закувала та сиза зозуля раным рано по зори,Ой и заплакали хлопци-запорожци у чужий земли…– Это как будто жалоба за уничтожение Запорожья, мне упрек, – задумчиво проговорила государыня.
– Что делать, государыня! На то была, видно, Божья воля, – вздохнул Храповицкий.
Все вышли на палубу слушать пение: и камер-фрейлина Протасова, и Марья Саввишна Перекусихина, и молоденькая фрейлина-украинка, и даже серьезный Захар, простивший императрице ее истоптанные туфли и затасканный капот.
– Ишь, ленивые, ленивые хохлы, словно их волы, а как знатно поют, – похвалил пение и Захар.
– Что твои соловьи, – согласилась и Марья Саввишна.
– А соловьи, знай себе, заливаются по берегу, – заметил Захар.