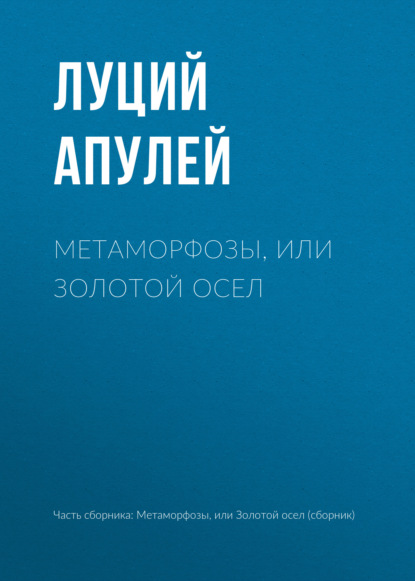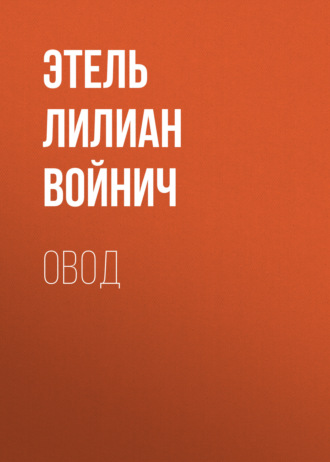 полная версия
полная версияОвод
В своем горячем желании утешить ее он взял ее руку, но сейчас же выпустил и отшатнулся, услышав за собой мягкий, мурлычущий голос:
– Монсеньор Монтанелли, почтеннейший доктор, без сомнения, обладает всеми теми добродетелями, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов-старожилов, никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи – большие охотники до новинок…
– Откуда вы это знаете? – послышался голос Риккардо, в котором звучала нотка сдерживаемого раздражения.
– Из Священного Писания, мой дорогой. Если верить ему, то даже почтенные духи имеют пристрастие к фантастическим сочетаниям. А честность и кардинал, по-моему, очень своеобразное сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом… А! Синьор Мартини и синьора Болла! Славная погода после дождей, не правда ли? Слушали и вы нового Савонаролу?{59}
Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и цветочком в петлице, протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую изящной перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его безукоризненных лакированных башмаках и освещало его улыбающееся лицо, он показался Мартини не таким безобразным, но еще более самодовольным. Они пожали друг другу руки: один приветливо, другой угрюмо.
– Вам дурно, синьора Болла? – вырвалось вдруг у Риккардо.
Ее лицо было так бледно, что казалось почти мертвым в тени, которую отбрасывали на него поля ее шляпы, и по тому, как прыгали ленты у нее на груди, было видно, как сильно бьется ее сердце.
– Я поеду домой, – сказала она слабым голосом.
Подозвали коляску. Мартини сел с нею, чтобы проводить ее до дому. Овод поспешил поправить ее платье, свесившееся на колесо, и потом вдруг взглянул на нее, и Мартини заметил, что она отшатнулась с выражением ужаса на лице.
– Что с вами, Джемма? – спросил он по-английски, как только они тронулись. – Что вам сказал этот негодяй?
– Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем. Я… испугалась.
– Испугались?
– Да… Мне показалось…
Она прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, пока она придет в себя. Ее лицо мало-помалу ожило, и, повернувшись к Мартини, она заговорила своим обыкновенным, твердым голосом:
– Вы были совершенно правы, говоря, что вредно отдаваться воспоминаниям об ужасном прошлом. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать самые невозможные вещи. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном буду видеть фантастическое сходство с Артуром. Это – точно галлюцинация, какой-то кошмар среди белого дня. Представьте: сейчас, когда этот человек подошел к нам, мне показалось, что это Артур.
Глава V
Овод положительно отличался особенной способностью наживать себе врагов. Он приехал во Флоренцию только в августе, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, разделяли отношение к нему Мартини. Даже самым горячим из его поклонников наскучили свирепые нападки на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать и поддерживать все, что ни скажет остроумный сатирик, начинал скрепя сердце признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое.
Единственным, кто оставался равнодушным к граду карикатур и пасквилей, выходивших из-под пера Овода, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, как говорил Мартини, на высмеивание человека, который принимает это так благодушно. Рассказывали, что Монтанелли, когда у него обедал архиепископ Флорентийский, нашел у себя в комнате один из самых злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и, передавая архиепископу, сказал: «А ведь неглупо написано, не правда ли?»
Вскоре в городе появился листок, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже на нем и не был нарисован Овод с распростертыми крыльями (этим рисунком Риварес заменял подпись на своих памфлетах), для большинства читателей уже по одному стилю, желчному и язвительному, стало бы ясно, кем он написан. Памфлет был составлен в виде диалога между Тосканой в образе Мадонны и Монтанелли в образе ангела в венке оливковых веток (символ мира) и с лилиями в руке (символ чистоты), возвещающего о пришествии иезуитов. Все это произведение было полно оскорбительных личных намеков и слишком смелых догадок. Вся Флоренция чувствовала, что сатира и жестока и несправедлива, – и, однако, вся Флоренция смеялась. В серьезном тоне нелепостей, которыми был наполнен памфлет, было столько неотразимого юмора, что самые яростные противники Овода смеялись так же искренне, как и его приверженцы. И, несмотря на явную несправедливость сатиры, листок оказал свое действие на городское население. Личная репутация Монтанелли стояла слишком высоко, чтобы ее мог серьезно поколебать какой-нибудь пасквиль{60}, хотя бы самый остроумный, но был момент, когда общественное мнение обратилось против него. Овод знал, куда ужалить, и хотя перед домом кардинала продолжал толпиться народ, чтобы посмотреть на него, когда он садился в коляску или возвращался домой, но теперь сквозь благословения и приветствия часто прорывались знаменательные крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!».
Но у Монтанелли не было недостатка в защитниках. Через два дня после появления пасквиля в руководящем клерикальном органе «Верующий» была напечатана блестящая статья, озаглавленная «Ответ на “Тайну благовещения”» и подписанная «Сын церкви». Это была вполне безупречная защита Монтанелли против клеветнических нападок Овода. Анонимный автор начинал пылким и красноречивым изложением доктрины «мира и благоволения» на земле, провозвестником которой явился новый Папа, затем бросал вызов Оводу, приглашая его доказать справедливость хоть одного из его обвинений, и в заключение торжественно призывал публику не верить достойному презрения клеветнику. Как по убедительности защиты, так и по литературным достоинствам этот «Ответ» был настолько выше заурядных газетных статей, что им заинтересовался весь город, тем более что сам издатель газеты не мог угадать, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вышла вскоре отдельной брошюркой и об «анонимном защитнике» Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.
Овод ответил страстными нападками на нового Папу и на всех его клевретов, особенно на Монтанелли, осторожно намекнув, что панегирик ему был написан с его собственного согласия. На это анонимный защитник ответил в «Верующем» негодующим протестом. Все остальное время пребывания Монтанелли во Флоренции эта полемика не прекращалась и скоро настолько завладела вниманием публики, что заставила ее почти забыть самого проповедника.
Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но этим ничего не добились. На все эти доводы он только любезно улыбался и отвечал со своим характерным заиканием:
– П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я нарочно выговорил себе право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет Монтанелли. Таков был наш уговор.
В конце октября Монтанелли выехал в свою епархию в Романье. Перед отъездом он произнес прощальную проповедь, в которой коснулся и знаменитого литературного спора. Мягко выразив сожаление об излишней страстности обоих писателей, он просил своего неведомого защитника подать пример сдержанности и прекратить эту бесполезную и непристойную словесную войну. На следующий же день в «Верующем» появилась заметка, извещавшая о том, что «Сын церкви», ввиду публично выраженного монсеньором Монтанелли желания, отказывается от продолжения спора.
В конце ноября Овод заявил комитету, что он хочет съездить к морю на две недели. Он уехал, как говорили, в Ливорно; но когда вскоре после него туда же приехал доктор Риккардо и хотел повидаться с ним, он тщетно разыскивал его там. Пятого декабря в Папской области и вдоль всей цепи Апеннинских гор началось крупное политическое движение, и многие тогда стали догадываться, почему Оводу пришла вдруг фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда волнение было подавлено. Встретив на улице Риккардо, он сказал ему с улыбкой:
– Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой славный старинный город! В нем чувствуешь себя точно в счастливой Аркадии!{61}
На Рождестве он присутствовал на одном собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было очень многолюдное. Овод немного опоздал, и, когда он вошел с поклоном и улыбкой, выражавшими просьбу извинить его, не было уже ни одного свободного места. Риккардо поднялся было, чтобы принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его.
– Не беспокойтесь, – сказал он, – я отлично устроюсь и так.
Он прошел через комнату к окну, возле которого сидела Джемма, и сел на подоконник.
Джемма чувствовала на себе загадочный взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами Леонардо да Винчи{62}, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку быстро уступило место безрассудному страху.
На обсуждение собрания был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожавшего Тоскане голода, с изложением мнения комитета о том, какие должны быть приняты меры для предупреждения бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко расходились. Радикальная часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за выпуск энергичного воззвания к правительству и к обществу о немедленном принятии мер для своевременной помощи населению. А более умеренная часть, в том числе, конечно, и Грассини, опасалась, что слишком энергичный тон воззвания может только раздражить правительство, но не убедить.
– Все это очень хорошо, господа, и весьма желательно, разумеется, чтобы помощь была оказана без промедления, – говорил Грассини спокойно, со снисходительным сожалением оглядывая волнующихся радикалов. – Все мы, или по крайней мере большинство из нас, желаем много такого, чего едва ли добьемся когда-нибудь. Но если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Если бы нам удалось заставить правительство провести анкету о состоянии урожая, то и это уже было бы шагом вперед.
Галли, сидевший в углу около камина, вскочил, чтобы возразить:
– Шагом вперед? Конечно, милостивый государь. Но голод не будет нас ждать. Если мы пойдем таким шагом, народ перемрет, прежде чем мы успеем подать ему помощь.
– Интересно бы знать… – начал было Саккони.
Но тут с разных мест раздались голоса:
– Говорите громче: не слышно!
– Как тут услышишь, когда на улице такой адский шум, – сердито сказал Галли. – Закрыто ли там окно, Риккардо?
Джемма оглянулась на окно.
– Да, – сказала она, – окно закрыто. Но там, должно быть, проходит бродячий цирк или что-то в этом роде.
Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще рев скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.
– Теперь уж такие дни, что приходится мириться с шумом, – сказал Риккардо. – На Святках всегда бывает шумно… Что вы хотели сказать, Саккони?
– Я хотел сказать, что интересно бы знать, что думают обо всем этом в Пизе и в Ливорно. Не сообщит ли нам чего-нибудь на этот счет синьор Риварес? Он как раз оттуда.
Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили.
– Синьор Риварес! – позвала его Джемма. Она сидела к нему ближе всех и, так как он не отрывался от окна, наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и она вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы его как-то страшно зашевелились.
– Да, это бродячий цирк, – прошептал он.
Ее первым инстинктивным движением было оградить его от любопытства других. Не понимая еще, что с ним, она догадывалась, что у него какая-то страшная галлюцинация, овладевшая его телом и душой. Она быстро встала и, заслоняя его собою от взглядов публики, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу.
По улице двигался цирк с фокусниками, сидевшими на ослах, и с арлекинами в пестрых костюмах.
Толпа праздного люда, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась с арлекинами бумажными лентами и бросала мешочки с конфетами коломбине, которая сидела на своей колеснице, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и деланой улыбкой на раскрашенных губах. За колесницей шла пестрая толпа: арабы, нищие, акробаты, выкидывавшие на ходу всякие головоломные штучки, и продавцы мелких безделушек и сластей. Все они, смеясь и крича, толкали и колотили кого-то, но кого именно – Джемма сначала не могла разглядеть в толпе. Но вскоре она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в нелепом шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, очевидно, принадлежал к составу труппы и забавлял толпу уродливыми гримасами и кривляньем.
– Что там такое? – спросил Риккардо, подходя к окну.
Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то бродячих актеров. Джемма повернулась к нему.
– Ничего интересного, – сказала она. – Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я думала, не случилось ли у них чего-нибудь.
Она стояла, опершись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ее руку.
– Благодарю вас! – прошептал он мягко и, закрыв окно, снова сел на подоконник.
– Простите, что я прервал вас, господа, – сказал он шутливым тоном. – Я загляделся на представление. Очень интересно.
– Саккони предложил вам вопрос, – сказал ему резко Мартини. Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и ему было досадно, что Джемма так бестактно следовала его примеру. Это совсем было на нее не похоже.
Овод объявил, что он ничего не может сказать о настроении в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И он тотчас же пустился в ответные рассуждения сначала о предстоящем голоде, мучил своей длинной речью и заиканьем. Казалось, он находил какое-то лихорадочное удовольствие в звуках собственного голоса. Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини:
– Не останетесь ли пообедать у меня? Фабрицци и Саккони обещали остаться.
– Благодарю, но я собирался проводить синьору Боллу.
– Вы, кажется, серьезно думаете, что я не могу добраться до дому одна? – сказала Джемма, подымаясь и накидывая плащ. – Конечно, он останется у вас, доктор: ему полезно побыть в обществе. Он слишком засиделся дома.
– Если позволите, я вас провожу, – вставил Овод. – Я иду в ту же сторону.
– Если вам в самом деле по дороге…
– А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечерком? – спросил Риккардо, отворяя им дверь.
Овод, смеясь, оглянулся через плечо.
– У меня, мой друг? Я хочу пойти в цирк.
– Что за чудак, – говорил потом Риккардо, вернувшись к гостям. – И какое странное пристрастие к балаганным шутам!
– Ничего удивительного: это в нем говорит сродство душ, – сказал Мартини, – он сам настоящий балаганный шут.
– Хорошо, если только шут, – вставил Фабрицци серьезно. – Но я боюсь, что если он и шут, то, во всяком случае, шут опасный.
– Опасный? В каком отношении?
– Не нравятся мне эти таинственные увеселительные поездки, которые он так любит. Вы знаете, ведь он ездил уже три раза, и я не верю, чтобы в эту последнюю поездку он был в Пизе.
– Но ведь это почти не секрет, что он ездит в горы, – сказал Саккони. – Он даже не очень старается скрыть, что поддерживает сношения с контрабандистами, с которыми познакомился во время мятежа в Савиньо, и вполне естественно, что он пользуется их услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.
– Вот об этом-то мне и хотелось с вами поговорить, – сказал Риккардо. – Мне приходит в голову, что самое лучшее – попросить Ривареса взять на себя руководство и нашей контрабандой. Доставка нашей литературы в Пистойю, по-моему, организована очень плохо. Отправка памфлетов всегда одним и тем же способом – в сигарах – чересчур примитивна.
– Однако до сих пор она была хороша, – упрямо возразил Мартини. Ему надоело слушать, как Галли и Риккардо вечно выставляли Овода каким-то образцом для подражания, и он находил, что все шло как нельзя лучше, пока не явился этот «лицемерный разбойник» учить всех уму-разуму.
– Да, до сих пор она удовлетворяла нас, так как ничего лучшего не было. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. И я думаю, что, если бы дело взял на себя Риварес, этого не случилось бы вперед.
– Почему же вы так думаете?
– Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужих, а может быть, даже просто как на дойную корову, а Риварес, по меньшей мере, их друг, если не предводитель. Его они слушаются и верят ему. Для того, кто участвовал в восстании в Савиньо, всякий контрабандист, можете быть уверены, сделает много такого, чего не сделает для нас. А во-вторых, едва ли между нами найдется хотя один, кто знал бы горы так хорошо, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался в горах и отлично знает все тропинки контрабандистов. Ни один контрабандист не посмеет обмануть его, а если бы даже и решился, это ему все равно не удастся.
– Итак, что же вы предлагаете? Поручить ему все дело доставки нашей литературы в Папскую область – распределение, адреса, складочные места и вообще все – или же просить его только взять на себя переправу ее через границу?
– Что касается адресов и складочных мест, то из них все, нам известные, вероятно, известны и ему. Но, кроме того, ему, наверное, известны и такие, которыми мы не располагаем. Так что в этом отношении мы едва ли дадим ему что-нибудь новое. Ну а относительно распределения – это, конечно, как решит большинство. Но самое важное, по-моему, – переправа через границу. Раз книги доставлены благополучно в Болонью – раздача их по рукам уже сравнительно легкое дело.
– Если хотите знать мое мнение, – сказал Мартини, – то я против этого плана. Ведь это только предположение, что Риварес особенно пригоден для такого дела. В сущности, никто из нас не видел его в этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы.
– О, в этом можете не сомневаться! – перебил Риккардо. – История восстания в Савиньо доказывает, что он никогда головы не теряет!
– А кроме того, – продолжал Мартини, – хоть я и мало знаю его, но, мне кажется, имею достаточно оснований сказать, что ему нельзя доверять всех секретов партии. Он, мне кажется, человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же заведование партийной контрабандой в руки одного человека – дело очень серьезное. Что вы об этом думаете, Фабрицци?
– Я не сомневаюсь ни в его смелости, ни в честности, ни в самообладании. Не подлежит сомнению и то, что ему хорошо знакомы как горы, так и горцы. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит в горы только ради контрабандной переправы своих памфлетов. Я думаю, что у него есть другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами – это только мое подозрение. Мне кажется очень правдоподобным, что он в тесной связи с какой-нибудь из шаек, и, может быть, даже с самой опасной.
– С какой же именно, думаете вы? С «Красными поясами»?
– «Ножовщиками».
– С «Ножовщиками»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, без всякого образования и без политического опыта.
– Такими же были и повстанцы в Савиньо. Но между ними было несколько образованных людей, которые руководили ими. То же может быть и в этой шайке. И обратите внимание, это почти достоверный факт: большинство членов самых крайних партий в Романье – бывшие участники восстания. Они поняли, что в открытом восстании им не побороть клерикалов, и перешли к тайным убийствам. Потерпев неудачу с ружьями в руках, они взялись за ножи.
– А почему вы думаете, что Риварес находится в сношениях с ними?
– Я только подозреваю. Во всяком случае, это надо было бы выяснить, прежде чем вверять ему всю нашу литературную контрабанду. Если он вздумал вести оба дела зараз, он может сильно повредить нашей партии: испортит только ее репутацию и ровно ничего не сделает. Но об этом мы еще поговорим в другой раз – мне нужно поделиться с вами вестями из Рима. Говорят, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления.
Глава VI
Джемма и Овод молча шли по Лунг-Арно. Лихорадочная болтливость Овода, по-видимому, истощилась. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Риккардо, и Джемма была от души рада его молчанию. Ей всегда было тяжело в его обществе, и в этот день – больше чем когда-нибудь.
Вдруг он остановился и повернулся к ней:
– Вы не устали?
– Нет. А что?
– И не очень заняты сегодня вечером?
– Нет.
– Я хотел просить вас оказать мне особую милость – прогуляться со мной.
– Куда?
– Да просто так, куда вам нравится.
– Что это вам вздумалось?
– Я не могу вам объяснить. Это очень трудно. Но я вас очень прошу.
Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило ее.
– С вами происходит что-то странное, – сказала она мягко.
Он выдернул лепесток из цветка в петлице и стал разрывать его на кусочки. Кого он ей напоминал? Кого-то с такими же нервно-торопливыми движениями пальцев.
– Мне тяжело, – сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук. – Мне не хочется сегодня оставаться одному. Пойдемте со мной?
– Да, конечно. Но не лучше ли нам пойти ко мне?
– Нет, пообедаем в ресторане. Есть ресторан на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы обещали.
Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не прикоснулся к нему.
Он все время упорно молчал, крошил хлеб и закручивал бахрому скатерти.
Джемма чувствовала себя очень неловко. Она начинала жалеть, что согласилась идти с ним. Молчание становилось тягостным. Ей не хотелось заводить пустого разговора с человеком, который, казалось, забыл даже об ее присутствии. Наконец он взглянул на нее и неожиданно сказал:
– Хотите посмотреть представление в цирке?
Она широко раскрыла глаза от удивления.
– Видали вы когда-нибудь такие представления? – спросил он раньше, чем она успела ответить.
– Нет, не видала. Меня они не интересовали.
– Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений.
Бродячий цирк раскинул свою палатку за городскими воротами. Когда к ней подходили Овод и Джемма, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвещали о том, что представление началось.
Оно было весьма несложного характера. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обруч, накрашенной коломбины да горбуна, выкидывавшего скучные и глупые шутки. Шутки в общем не оскорбляли ухо грубостью, но были избиты и вялы, и вообще на всем лежал отпечаток непроходимой пошлости. Публика, со свойственной тосканцам вежливостью, смеялась и аплодировала; но больше всего ее забавляли выходки горбуна, в которых Джемма не находила ничего ни остроумного, ни забавного. Это был просто ряд грубых, безобразных кривляний. Зрители передразнивали его и, поднимая детей себе на плечи, показывали им «уродца».
– Синьор Риварес, неужели вы находите все это занимательным? – спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке палатки. – Мне кажется…
Она вдруг замолчала, увидев его лицо. Ни разу в жизни, разве только когда она стояла с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не видела она такого безграничного, безнадежного страдания на человеческом лице.
Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, перекувырнулся в воздухе и выкатился с арены каким-то нелепым комком. Начался диалог между двумя клоунами, и Овод шевельнулся, точно проснувшись.
– Пойдемте, – сказал он. – Или, может быть, вы хотите еще посмотреть?
– Я предпочитаю уйти.
Они вышли из палатки и пошли среди темной зелени к реке. Несколько минут оба молчали.
– Ну что, как вам понравилось представление? – спросил Овод.
– Довольно грустное зрелище, а местами просто отталкивающее.
– Что же именно вам показалось отталкивающим?
– Да все эти кривлянья. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.
– Вы говорите о горбуне?
Помня, как болезненно чувствителен Овод к тому, что напоминало ему об его собственных физических недостатках, она меньше всего хотела говорить об этой части представления. Но он сам спросил, и она подтвердила: