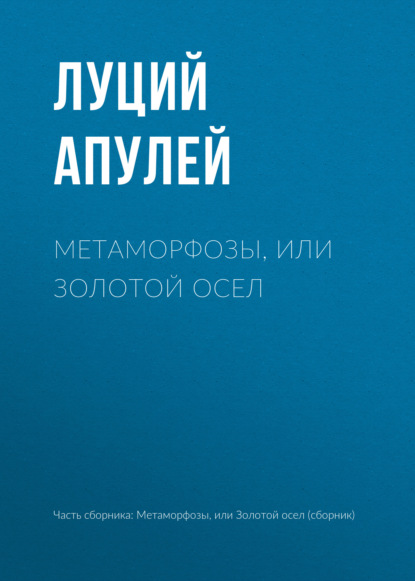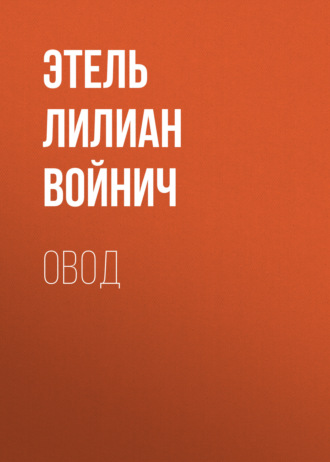 полная версия
полная версияОвод

Этель Войнич
Овод
Часть первая
Глава I
Артур просматривал вороха рукописных проповедей в библиотеке духовной семинарии в Пизе{1}. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были настежь открыты, а шторы – спущены. Отец ректор, каноник{2} Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.
– Не можешь найти, дорогой? Оставь. Я снова напишу это место. Вероятно, страничка где-нибудь затерялась, и все это время ты напрасно проискал ее.
У Монтанелли был низкий, густой, звучный голос, серебристая чистота тона сообщала его речи особенное обаяние. Чувствовался голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась бесконечная ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.
– Нет, падре{3}, я найду. Я уверен: она здесь. Если будете писать наново – вам никогда не удастся восстановить это место.
Монтанелли принялся за прерванную работу. Где-то снаружи за окном однообразно жужжал сонный майский жук, и в тишину улицы врывался протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!»[1]
– «Об исцелении прокаженного»{4} – вот она!
Артур подошел мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий на вид, он, скорее, походил на итальянца шестнадцатого века, чем на юношу тридцатых годов, вышедшего из средней английской семьи. Слишком уж все в нем было выточено, изящно: длинные брови, подвижной, нервный рот, руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его легко было принять за хорошенькую девочку, переодетую в мужское платье; но своими гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру, которая не показывает когтей.
– Неужели нашел? Что бы я делал без тебя, Артур? Я бы вечно все терял. Ну, довольно… На этом я кончу и больше пока не буду писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты не понял?
Они вышли в спокойный, тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря{5}, и двести лет тому назад его квадратный двор содержался в строгом порядке. Розмарин и лаванда росли на аккуратно остриженных кустарниках. Теперь не то… Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями на дворе, были уже давно похоронены и забыты. Правда, цветущие травы все еще благоухают в мягкие летние дни и вечера, но никто уже не собирал их семян для лекарственных целей. Пучки диких трав заполняли трещины в плитах, и колодец посредине двора зарос папоротником. Розы стали дикими, их длинные спутавшиеся стебли ползли по дорожкам. На грядках алели большие красные маки. Высокие цветы наперстянки склонялись над спутанными травами, и древняя лоза, одичалая и бесплодная, свисала с веток запущенного чашкового дерева, а оно медленно и грустно кивало своей густолиственной головой. В одном углу сада пристроилась большая магнолия с целой шапкой темной зелени, среди которой, словно мазки, сделанные рукой художника, выглядывали молочно-белые цветы. К стволу прислонилась грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.
В университете Артур изучал философию. Когда приходилось встречать трудное место, он обращался за разъяснением к падре. Он никогда не был воспитанником семинарии, но Монтанелли был для него авторитетом по всем отраслям знания.
– Теперь я пойду, – сказал Артур, когда трудное место было разъяснено. – Только, может быть, я вам нужен?
– Нет, пока я закончил свою работу, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной – просто так, без всякого дела. Ты свободен?
– О да!
Он запрокинул голову и, прислонившись к древесному стволу, смотрел сквозь темную чащу ветвей на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине ясного неба. От матери, уроженки Корнуолла{6}, Артур унаследовал полные тайны синие глаза, мечтательно смотрящие из-под темных ресниц. Монтанелли отвернулся – он не мог видеть эти глаза.
– Какой утомленный вид у тебя, мой дорогой, – проговорил он.
– Ничего не поделаешь.
В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же это заметил.
– Тебе не следует слишком торопиться с возобновлением занятий. Болезнь матери, бессонные ночи – все это понятно, должно было тебя изнурить. Тебе нужен продолжительный отдых перед отъездом из Ливорно{7}.
– О, падре, что толку? Я не в силах теперь, после смерти матери, оставаться в этом доме. Юлия довела бы меня до сумасшествия.
Юлия была жена его старшего сводного брата и пользовалась всяким случаем, чтобы отравлять ему жизнь.
– Незачем оставаться тебе у родственников, – мягко отвечал ему Монтанелли. – Несомненно, это самое худшее для тебя. Но ты можешь поехать к своему другу доктору. Там проведешь месяц, а потом снова будешь способен работать.
– Нет, падре, право, не могу! Уоррены – хорошие, сердечные люди, но они меня не понимают. Они сочувствуют моему горю – я это вижу по их лицам. Но ведь они стали бы утешать меня, говорить о моей матери… Джемма, конечно, не такая… она всегда понимала чутьем, о чем не следует говорить. Даже когда мы были еще ребятами. Другие не так чутки. Да и не только это…
– Что же еще, сын мой?
Артур сорвал несколько цветков с упавшей ветки наперстянки и нервно теребил их в руке.
– Я не могу жить в этом городе, – начал он после минутной паузы. – В городе – магазины, где она обыкновенно покупала мне игрушки; набережная, где я гулял с нею, пока она не была еще больна. Куда бы я ни пошел – все то же. Так же как прежде, каждая цветочница на базаре подходит ко мне и предлагает цветы… Как будто они мне нужны теперь! И потом это кладбище… Нет, мне нельзя быть там – тяжело видеть все это.
Артур замолчал. Он рассеянно рвал на мелкие части колокольчики наперстянки. Молчание длилось долго. Оно было настолько утомительно, что Артур наконец начал недоумевать, почему Монтанелли не говорит. Под ветвями магнолии уже сгущались сумерки. Все было окутано ими и принимало причудливые, капризные очертания; но еще не смерклось настолько, чтобы нельзя было разглядеть мертвенно-бледное лицо каноника. Низко опустив голову, он крепко держался правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления перед этой великой душой.
«О боже, – подумал он, – как мелок я и эгоистичен! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».
Монтанелли поднял голову и огляделся кругом.
– Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты ехал туда. По крайней мере, теперь, – сказал он с лаской в голосе. – Но обещай мне, что ты хорошенько отдохнешь и используешь для своего здоровья летние каникулы. Мне думается, тебе лучше устроиться где-нибудь подальше от Ливорно. Я не хочу, чтобы ты совсем расхворался.
– Падре, а когда закроется семинария, куда вы поедете?
– Мне придется, как всегда, везти воспитанников в горы и устроить их там. В середине августа из отпуска вернется помощник ректора. Я освобожусь тогда и для разнообразия поброжу по Альпам. Может быть, ты поедешь со мной? Отправились бы вместе в длинную горную экскурсию, и у тебя был бы превосходный случай заняться альпийскими мхами. Только боюсь, как бы ты не соскучился со мной.
– Падре! – Артур всплеснул руками – как «экспансивный иностранец», так говорила Юлия. – Я все на свете отдал бы, чтобы ехать с вами. Только… Я не уверен…
Он остановился.
– Мистер Бертон не разрешит тебе, хочешь ты сказать?
– Конечно, он воспротивится этому, но это меня не удержало бы. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. Потом он мне ведь только сводный брат. Я не вижу, почему я должен считаться с его желаниями.
– Но если он будет серьезно противиться, я думаю, тебе лучше уступить. Положение твое в доме еще ухудшится, если…
– Нисколько! – горячо прервал его Артур. – Никогда они меня не любили и не полюбят, что бы я ни делал. Да и как Джемс может не согласиться, раз я еду с вами, с моим духовным отцом?
– Помни – он протестант{8}. Во всяком случае, лучше ему написать. Мы подождем и увидим, что он скажет. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководиться тем, любят нас или ненавидят.
Это мягкое внушение подействовало на Артура. Он слегка покраснел.
– Да, я знаю, – ответил он, вздыхая. – Но ведь это так трудно.
Монтанелли переменил разговор.
– Знаешь, – сказал он, – я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник. Был здесь епископ из Ареццо, и мне бы хотелось, чтобы ты его повидал.
– В этот день я обещал быть у одного студента. На квартире у него было собрание, и меня ждали.
– Какое собрание?
Артур несколько смутился.
– Это… это, скорее, даже не собрание, а… – нервно заикаясь, поправился он. – Приехал из Женевы студент и произнес речь… Скорее, это была лекция…
– О чем?
Артур замялся:
– Падре, вы не будете спрашивать об имени студента? Я обещал…
– Я ни о чем не буду тебя спрашивать. Раз ты обещал хранить тайну, ты не должен говорить. Но думаю – довериться мне ты можешь.
– Конечно, падре. Он говорил… о нас и о нашем долге народу… о нашем… о долге к нам самим. Говорил и о том, чем мы можем помочь…
– Помочь? Кому?
– Народу… и…
– И?
– Италии…
Последовало продолжительное молчание.
– Скажи мне, Артур, как давно стал ты думать об этом? – серьезно спросил Монтанелли.
– С последней зимы…
– Еще до смерти матери? И она не знала?
– Нет. Тогда это еще не увлекало меня.
– А теперь?..
Артур провел рукой по ветке наперстянки, оборвав с нее колокольчики.
– Вот как это случилось, падре, – начал он, опустив глаза. – Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и тогда познакомился со студентами. Так вот, кое-кто из них говорил мне обо всем этом… Давали читать книги. Но особенно сильно меня это не захватывало. Мне всегда хотелось поскорее вернуться к матери. Она была так одинока там, в Ливорно, среди них, в этой домашней тюрьме… Довольно было Юлии с ее язычком, чтобы убить ее. Потом наступила зима. Мать заболела… Я забыл и студентов и книги, а скоро – помните? – совсем перестал бывать в Пизе. Если бы тогда меня волновали эти вопросы, я бы поделился с матерью. Но они как-то вылетели из моей головы… Скоро стало ясно, что она доживает свои последние дни. Я был безотлучно при ней до самой ее кончины. Часто просиживал возле нее целые ночи. А днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать… Вот в эти-то длинные ночи я и стал думать о тех книгах и разговорах с товарищами. Пытался разобраться, правы ли они. Задумывался над тем, что сказал бы Христос обо всем этом.
– Ты обращался к нему? – Голос Монтанелли звучал не совсем уверенно.
– Часто, падре. Иногда я просил его указать, что надо делать, но я не получал ответа.
– И ты ни слова никогда не сказал мне, Артур. А я-то всегда думал, что ты доверяешь мне.
– Падре, вы ведь знаете – я вам верю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что мне никто не может помочь – ни вы, ни мать. Мне нужен был ответ непосредственно от Бога. Вы ведь видите: решался вопрос моей жизни, моей души.
Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в густые сумерки, окутавшие ветви магнолии.
– Ну а потом? – спросил он.
– Потом?.. Она умерла… Последние три ночи я не отходил от нее.
Он замолчал. Монтанелли не двигался.
– Два дня перед ее погребением я не мог думать ни о чем. Потом, после похорон, я слег. Помните, я не мог прийти к исповеди?
– Помню.
– Вот в эту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Она была пуста. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что Господь поможет мне… Я упал на колени и ждал… Ждал всю ночь. А утром, когда я пришел в себя… Падре! Это бесполезно… Я не сумею объяснить… Я не сумею вам рассказать, что я видел… Я сам смутно помню. Помню только, что Господь ответил мне. И я не смею противиться Его воле.
Они сидели некоторое время молча в темноте. Затем Монтанелли положил руку на плечо Артура.
– Сын мой! – промолвил он наконец. – Сохрани меня боже сказать, что Господь не беседовал с твоей душой. Но помни, при каких условиях все это произошло, и, помня, не прими грустно настроенного больного воображения за торжественный призыв Господа. Если действительно была Его воля ответить тебе – смотри, как бы не истолковать ошибочно его слов. Куда зовет тебя твой душевный порыв?
Артур поднялся и торжественно ответил, как будто повторяя слова катехизиса:
– Отдать жизнь за Италию; освободить ее от рабства, от нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного господина, кроме Бога.
– Артур, подумай только, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец.
– Это все равно. Я остаюсь самим собой.
Опять наступило молчание.
Монтанелли прислонился к дереву и прикрыл рукою глаза.
– Сядь на минуту, сын мой, – сказал он наконец.
Артур опустился на скамью, а Монтанелли взял его за обе руки и крепко, долго жал их.
– Сейчас я не могу доказывать тебе… Все это произошло так внезапно… Я не подумал об этом… Мне нужно время разобраться. Как-нибудь после мы поговорим обстоятельнее. Теперь же я прошу тебя помнить об одном: если ты будешь вовлечен в смуту и погибнешь, мое сердце не выдержит – я умру.
– Падре!
– Не перебивай, дай мне кончить. Я как-то уже говорил тебе, что в этом мире нет у меня никого, кроме тебя. Мне кажется, ты не совсем понял, что это значит. Трудно тебе понять – ты так молод. В твои лета я тоже не понял бы, Артур. Ты для меня – как бы мой собственный сын. Ты понимаешь? Я не могу оторваться от тебя – ты свет моих очей. Я готов умереть, лишь бы только удержать тебя от ложного шага и сохранить твою жизнь. Но я бессилен сейчас… Я не требую от тебя обещаний… Прошу тебя только помнить, что я сказал, и быть осторожным. Подумай хорошенько, прежде чем решить… Для меня сделай это, для умершей матери твоей…
– Я подумаю, а вы, падре, помолитесь за меня и за Италию.
Он опустился на колени, и Монтанелли положил руку на его склоненную голову. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку падре и тихо пошел по мокрой, росистой траве. Монтанелли остался один…
Глава II
Мистеру Джемсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата пуститься в путешествие по Швейцарии с Монтанелли. Неудобно было не разрешить этой невинной прогулки в обществе старшего профессора богословия, да еще с такой благой целью, как занятия по ботанике. Слишком уж большим деспотизмом показалось бы это Артуру, который ничем не мог бы объяснить отказ и сейчас же приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам. А Бертоны гордились своей просвещенной веротерпимостью. Вот уже более ста лет, как «Бертон и сыновья», судовладельцы из Лондона, основали в Ливорно торговое предприятие, и с самого начала его все члены семьи оставались убежденными протестантами. Но все-таки они держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть честным даже в борьбе с папистами.
Случилось, что глава дома, оставшись вдовцом, стал тяготиться своим положением и женился на Глэдис, католичке, хорошенькой гувернантке его младших детей. Два старших сына, Джемс и Томас, как ни трудно было им мириться с присутствием в доме мачехи, почти что их сверстницы, с горечью покорились воле Провидения. Со смертью отца семейный разлад обострился женитьбой старшего сына; но оба брата добросовестно старались защищать Глэдис от злого, беспощадного языка Юлии и исполняли свои обязанности, как они их понимали, по отношению к Артуру. Они не любили его и даже не старались это скрыть. Их братские чувства сводились к щедрым подачкам и к предоставлению мальчику полной свободы.
В ответ на свое письмо Артур получил чек, который должен был покрыть его путевые издержки, и холодное разрешение использовать каникулы как ему будет угодно. Половину денег он истратил на покупку книг по ботанике и папок для сушки растений и с этим багажом двинулся в свое первое альпийское путешествие вместе со своим духовным отцом.
Настроение Монтанелли было теперь гораздо лучше. Артур давно уже не видел его таким. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к нему мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все происшедшее более спокойными глазами. «Артур еще юн и неопытен, – думал он. – Его решение едва ли могло быть окончательным. Есть еще время мягкими увещаниями, вразумительными доводами вернуть его с того опасного пути, на который он так опрометчиво вступил».
В их план входило провести несколько дней в Женеве; но на лице Артура появилось выражение скуки, как только он увидел ослепительно белые улицы и пыльные набережные, по которым без конца сновали туристы. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним.
– Что, дорогой? Тебе не нравится здесь?
– Я не совсем еще разобрался в моих впечатлениях. А все-таки не то, чего я ожидал. Вот озеро – прекрасно. Хороши и очертания холмов.
Они стояли на острове Руссо{9}, и он указывал рукой на длинный строгий контур отрогов Савойских Альп.
– Но город… он такой накрахмаленный, вылизанный… Настоящий самодовольный протестант. Нет, не лежит у меня сердце к нему. Когда я гляжу на него, мне вспоминается Юлия.
Монтанелли засмеялся.
– Бедный, как мне тебя жаль!.. Ну что же? Мы путешествуем для своего удовольствия, и нет причины задерживаться здесь дольше. Тогда сегодня же мы берем парусную лодку и катаемся по озеру, а завтра утром поднимемся в горы.
– Но, падре, вам, может быть, хотелось бы побыть еще здесь?
– Мой дорогой, я видел все это уже десятки раз, и для меня отдых – видеть твое удовольствие. Куда бы тебе хотелось?
– Ну, если вам все равно, так мне хотелось бы двинуться вверх по реке, к истокам.
– Вверх по Роне?
– Нет, по Арве. Она мчится так быстро.
– Тогда едем в Шамони.
Все время с полудня до вечера они провели на парусной лодке. Живописное озеро произвело на Артура гораздо меньше впечатления, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря, и глаз его привык к голубым волнам. Но он до страсти любил быстрые реки, и стремительный поток, несущийся с ледника, приводил его в восхищение.
– В этом потоке столько огня, столько порыва, – говорил он.
На другой день, рано утром, они отправились в Шамони. Пока они шли по плодородной долине, Артур был в очень приподнятом настроении. Но вот они подошли к повороту дороги. Большие зубчатые горы обхватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена они медленно двигались вверх по долине, останавливаясь на ночлег в придорожных шале{10} или в маленьких горных деревушках, а потом снова шли дальше. Артур всегда горячо откликался на красоты природы, и первый водопад, который им пришлось проходить, привел его в неописуемый восторг. Он сиял радостью, на него приятно было смотреть. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, эта детская радость сменялась мечтательным настроением. Монтанелли с удивлением смотрел на юношу. Казалось, существовало какое-то родство между ним и горами. Он готов был целыми часами лежать неподвижно в темном таинственном сосновом лесу, отзывавшемся на всякий шорох, лежать и смотреть промеж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих вершин и нагих скал. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.
Они осторожно спускались между стволами темных деревьев, направляясь к шале, где собирались ночевать.
Когда Монтанелли вошел в комнату, Артур поджидал его, сидя у стола за ужином. Юноша уже отделался от мрачного настроения, навеянного на него темнотой, и превратился, казалось, в другое существо.
– О падре, идите сюда, идите скорее и посмотрите на эту потешную собачонку. Она танцует на задних лапках.
Он теперь так же был увлечен собачкой и ее штуками, как прежде зрелищем альпийского сияния.
Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла подбоченясь и, улыбаясь, глядела на игру мальчика с собачкой.
– Видно, у него немного забот, – сказала она своей дочери на местном наречии. – Он так увлекается игрой. И какой красивый мальчик.
Артур покраснел, как школьник, и женщина, увидев, что он понял ее, ушла, смеясь над его смущением.
За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок, о восхождениях на горы, о растениях, которые они соберут.
Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Раньше, чем забрезжил свет, он отправился на верхние пастбища «помогать Гаспару пасти горных коз».
Впрочем, недолго пришлось его ждать. Он скоро вернулся, вбежав в комнату без шляпы. На плече у него, точно птичка, сидела маленькая крестьянская девочка лет трех, а в руках был большой букет диких цветов.
С улыбкой смотрел на него Монтанелли. Какой поразительный контраст с молчаливым Артуром Пизы или Ливорно!
– Где ты был, сумасброд? Все, поди, бегал по горам без завтрака?
– О, падре, как там хорошо! Горы так величественны при первом блеске солнца, а под ногами такая обильная роса!.. Взгляните!
Он нагнулся, рассматривая свои мокрые, грязные башмаки.
– С нами было немного хлеба и сыра, да на пастбище добыли козьего молока… Ужасная гадость! Ну, я опять проголодался, и надо дать чего-нибудь поесть этой маленькой персоне. Аннет, ты любишь мед?
Он уселся, посадил к себе на колени девочку и стал ей помогать укладывать цветы.
– Нет, нет! – вмешался Монтанелли. – Я не могу допустить, чтобы ты простудился. Беги скорее и переоденься в сухое. Иди сюда, Аннет. Где ты отыскал ее, Артур?
– В деревне. Это дочка того крестьянина, которого, помните, мы встретили вчера. Он – сапожник здешней общины. Не правда ли, какие у нее милые глаза? В кармане у девочки живая черепаха, и она зовет ее Каролиной.
Артур сменил мокрые чулки и сошел вниз завтракать. Аннет сидела на коленях у падре, без умолку тараторя о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухленькой ручке, чтобы monsieur[2] мог подивиться, как шевелятся у нее лапки.
– Смотрите, monsieur! – важным тоном, на малопонятном местном наречии, говорила она. – Смотрите, какие у Каролины башмаки!
Монтанелли забавлял малютку, гладил ее волосы, любуясь черепахой, и рассказывал ей чудесные сказки.
Вошла хозяйка убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы его преподобия.
– Бог помогает малышам распознавать хороших людей, – сказала она. – Аннет всегда пугается иностранцев, а теперь смотрю – она совсем не дичится его преподобия. Удивительная вещь! Аннет! Стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина, пока он не ушел. Это принесет тебе счастье.
– Я и не воображал, падре, чтобы вы могли так хорошо забавлять детей, – сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитой солнцем полосе пастбища. – Этот ребенок ни на минуту не отрывал глаз от вас. Знаете, что я думаю?
– Ну?
– Я только хотел сказать… Мне кажется, нужно жалеть о том, что церковь запрещает священникам жениться. Я совершенно не могу понять почему. Воспитание детей – дело серьезное, и для них важно хорошее влияние с самого рождения. По-моему, чем выше призвание человека и чище его жизнь, тем более он пригоден быть отцом. Падре, я уверен, что, если бы вы не были связаны обетом и были женаты, ваши дети были бы очень…
– Оставь.
Это было сказано торопливым, порывистым шепотом, который еще сильнее оттенил наступившее затем молчание.
– Падре, – снова заговорил Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли, – разве не верно то, что я сказал? Конечно, я мог ошибиться, но я сказал то, что думаю.
– Может быть, ты не совсем ясно понимаешь смысл своих слов, – мягко ответил Монтанелли. – Через несколько лет у тебя будет другое мнение на этот счет… Однако давай-ка лучше толковать о чем-нибудь другом.
Это было первым диссонансом в той полной гармонии, которая установилась между ними во время каникул.
Из Шамони они двинулись в Мартиньи и остановились на отдых, так как была удушливо жаркая погода. После обеда они вышли на террасу отеля. Она была защищена от солнца. Чудный вид открывался с нее. Артур принес ящик с растениями и завел с Монтанелли длинную беседу по ботанике.
На террасе сидели два художника-англичанина. Один делал набросок с натуры, а другой лениво болтал на своем языке. Ему казалось невозможным, чтобы иностранцы могли понимать по-английски.
– Бросьте пачкать, Вилли, – сказал он. – Нарисуйте лучше вон того красивого юношу-итальянца, восторгающегося папоротниками. Взгляните только на линию его бровей. Замените лупу в его руках распятием, наденьте на него римскую тогу, и перед вами законченный тип христианина первых веков.
– Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом. Он с таким же восторгом смотрел на жареную курицу, с каким теперь любуется этой сорной травой. Что и говорить, он очень мил; у него такой чудный оливковый цвет лица; но в нем нет и половины той живописности, какою поражает наружность его отца.