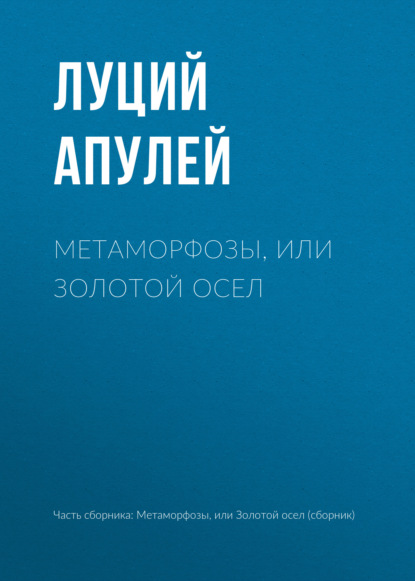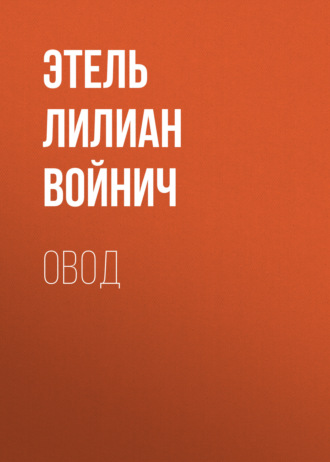 полная версия
полная версияОвод
– Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный тон, да и сам он не слишком симпатичен. Но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобзаниями и призывами к любви и примирению и что все это иезуиты и санфедисты сумеют обратить в свою пользу, – он тысячу раз прав… Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов порешили?
– Да вот на том, для чего я и пришел к вам: просить вас сходить к нему и постараться убедить его смягчить свой памфлет.
– Сходить к нему? Но я почти его не знаю. И кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна к нему идти, а не кто-нибудь другой?
– Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.
– От этого я воздержусь, конечно. Ну, хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: я мало надеюсь на успех.
– А я уверен, что сумеете уломать его, если захотите. Да еще скажите ему, что весь комитет восхищается его памфлетом – я разумею, в литературном отношении. Это приведет его в хорошее настроение, и притом это совершенная правда.
Овод сидел у своего письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматый черный пес, лежавший на ковре у его ног, поднял голову и зарычал, когда у приотворенной двери постучалась Джемма. Овод поспешно встал и отвесил ей сухой церемонный поклон. Лицо его вдруг стало неподвижным, утратив всякое выражение.
– Вы слишком любезны, – сказал он ледяным тоном. – Если бы вы дали мне знать, что вам нужно видеть меня, я сейчас же явился бы к вам.
Чувствуя, что он мысленно желает ей провалиться сквозь землю, она поспешила объяснить, что пришла по делу. Он опять поклонился и придвинул ей кресло.
– Я пришла к вам по поручению комитета, – начала она. – Там большинство не согласно с некоторыми пунктами вашего памфлета.
– Я так и думал. – Он улыбнулся и сел против нее, передвинув на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить свое лицо от света.
– Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде его неудобно печатать. Они боятся, что резкость тона может оскорбить людей, чья поддержка так важна для партии.
Он выдернул из вазы одну хризантему и начал медленно ощипывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на пальцах его тонкой правой руки. Ею овладело какое-то странное, тревожное чувство: ей показалось, что она уже видела где-то раньше эту манеру обрывать цветы.
– Как литературное произведение, – заметил он своим мягким голосом, но холодно, – памфлет мой ничего не стоит, и с этой точки зрения им могут восторгаться только профаны в литературе. А что он оскорбляет – так ведь этого-то я и хотел.
– Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары попадают не в тех, в кого нужно.
– Мне кажется, вы ошибаетесь, – проговорил он. – Вопрос стоит так: для какой цели пригласил меня сюда ваш комитет? Для того, как я понимал, чтобы вывести на чистую воду и высмеять иезуитов. Эту обязанность я и выполняю, разумеется, по мере сил.
– Могу вас уверить, что никто и не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, что ваш памфлет может оскорбить либеральную партию и лишить нас моральной поддержки городских рабочих. Ваши стрелы направлены против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового Папу, а это, по тактическим соображениям, комитет считает нежелательным.
– Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю только на тех представителей духовенства, с которыми партия в дурных отношениях, – я могу говорить всю правду, если хочу. Но как только я коснусь священников, любимцев партии, – о, тогда оказывается: «Правда – собака, которую надо держать на цепи». Да, шут был прав… Но я согласен быть чем угодно, только не шутом. Конечно, я должен преклониться перед решением комитета, но я нахожу, что он разбрасывает свое внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-мон-сеньора{54} М-монтан-н-нелли…
– Монтанелли? – повторила Джемма. – Я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Бризигеллы?..
– Да. Новый Папа, как известно, только что назначил его кардиналом. Мне как раз пишут о нем. Не хотите ли прослушать письмо? Пишет один из моих друзей, живущий по ту сторону границы.
– Какой границы? Папской области?
– Да. Вот что он пишет… «В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, к-кардиналом Лоренцо М-монтанелли, епископом Бризигеллы. О-он…»
Овод оборвал чтение и перевел дух. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже больше не заикаясь:
– «Он намеревается посетить Тоскану в течение будущего месяца. Приедет туда с особо важной миссией примирения. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где пробудет недели три, потом в Сиене и в Пизе и, наконец, через Пистойю{55} возвратится в Романью{56}. Он открыто присоединился к либеральной партии церкви, и притом он – личный друг Папы и кардинала Феретти{57}. При Папе Григории он был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апеннинах. А теперь он быстро выдвинулся вперед. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами-иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и так же вреден в своем роде, как и сам Ламбручини. Его теперешняя задача – поддерживать как можно дольше народный энтузиазм по поводу избрания нового Папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготовляемого агентами иезуитов проекта. В чем состоит этот проект, мне не удалось узнать». Дальше он пишет: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов – я не могу разобрать. Он или необыкновенно умный плут, или величайший осел. Странно одно: насколько мне удалось разузнать, он не берет взяток и не имеет любовниц, а это мне приходится видеть в первый раз».
Овод положил письмо и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами, в ожидании, что она скажет.
– Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? – спросила она, помолчав.
– Относительно безупречности частной жизни монсеньора Монтанелли? Нет. Да он и сам не уверен в безусловной верности того, что сообщает. Как вы могли заметить, он оговаривается: «…насколько мне удалось разузнать…»
– Я не об этом спрашиваю, – холодно перебила Джемма, – а о том, что касается его миссии.
– Да, в этом я могу вполне положиться на него. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, дающее ему возможность разузнавать о такого рода вещах.
«Верно, какой-нибудь чиновник в Ватикане», – быстро промелькнуло у нее в голове.
– Так вот какие у вас связи! Я, впрочем, так и думала.
– Письмо это, конечно, частного характера, – продолжал Овод, – и вы понимаете, что содержание его не должно быть известно никому, кроме членов вашего комитета.
– Само собою разумеется. Но вернемся к памфлету: могу ли я сказать комитету, что вы согласны сделать кое-какие изменения и немного смягчить тон, или…
– А вы не думаете, синьора, что изменения могут не только ослабить силу сатиры, но и испортить красоту «литературного произведения»?
– Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.
– Не следует ли заключить из этого, что вы лично расходитесь с мнением комитета?
– Если вас интересует, что думаю я лично, – извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу его правильным по освещению фактов и целесообразным в тактическом отношении.
– То есть?
– Я вполне согласна с вами, что Италия увлекается блуждающими огнями и что все эти восторги и ликования заведут ее в непроходимое болото. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член корпорации, большинство которой держится противоположного взгляда, я не могу настаивать на своем личном мнении. И разумеется, я тоже нахожу, что уж если говорить, то надо говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как у вас.
– Вы подождите минутку, пока я пересмотрю рукопись.
Он взял рукопись, пробежал ее от начала до конца и остался недоволен, как это было видно по его лицу.
– Да, вы правы. Статья написана в тоне кафешантанных острот, а не как политическая сатира. Но что же делать? Напиши я прилично – публика не поймет. Если не будет острословия, покажется скучно.
– А вы не думаете, что острословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?
Он посмотрел на нее быстрым, пронизывающим взглядом и расхохотался:
– Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Если я выброшу из памфлета все личные нападки и оставлю самую существенную часть в том виде, как она есть, комитет выразит сожаление, что не может взять на себя ответственность напечатать его; если же я пожертвую политической правдой и направлю все удары на отдельных врагов партии – комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вот вам интересная метафизическая задача. Что лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что вы на это скажете, синьора?
– Я не думаю, чтобы вы были связаны такой альтернативой. Я уверена, что, если вы выбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, многие будут против. И, мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить ваш резкий тон.
Он пожал плечами и покорно вздохнул:
– Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Раз вы лишаете меня права смеяться теперь, вы должны будете предоставить мне это право в недалеком будущем. Когда его преосвященство, безупречный кардинал, появится во Флоренции, – тогда уж ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. В этом уж вы должны мне уступить.
Он говорил небрежно, холодным тоном, выдергивая хризантемы из вазы и рассматривая на свет прозрачные лепестки. «Как дрожит у него рука, – думала Джемма, глядя, как трепетали цветы. – Ведь не пьет же он?»
– Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, – сказала она, вставая. – Я не могу предугадать, как они решат.
– А вы сами как решили бы? – спросил он, тоже вставая. Теперь он стоял, прислонившись к столу, и, держа в руках цветы, прижимал их к лицу.
Она колебалась. Его вопрос поднял в ней много старых тяжелых воспоминаний.
– Мне трудно это решить, – сказала она наконец. – Мне приходилось не раз слышать о монсеньоре Монтанелли много лет тому назад. Он тогда был только каноником и ректором духовной семинарии в той провинции, где я жила в детстве… Мне много рассказывал о нем один… человек, который знал его очень близко, и рассказывал только самое хорошее. Мне кажется, что он был – тогда, по крайней мере – действительно замечательным человеком. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть так развращает!
Овод поднял голову и смотрел на нее твердым взглядом.
– Во всяком случае, – сказал он, – если монсеньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Лежащий посреди дороги камень может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать… Позвольте, синьора. – Он, прихрамывая, подошел к двери и отворил ее. – Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской? Нет? Ну, до свиданья.
Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.
«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирою, то почему он это сказал таким угрожающим тоном?
Глава IV
Монсеньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он пользовался славой хорошего проповедника и был представителем реформированного папства. Народ с нетерпением ждал от него изложения нового учения – евангелия любви и примирения, долженствовавших уврачевать все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци на место ненавистного всем Ламбручини римским государственным секретарем подняло всеобщий энтузиазм. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать восторженное настроение. Безупречная строгость его жизни была настолько редким явлением среди высших сановников римской церкви, что уже сама по себе привлекла к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимыми условиями карьеры для служителей церкви. К этому еще присоединились действительно замечательный талант проповедника, чарующий голос и обаятельная наружность.
С такими данными он во всякое время имел бы огромный успех.
Грассини, как всегда, прилагал все усилия, чтобы иметь и эту новую знаменитость в числе своих гостей. Но залучить Монтанелли оказалось не так-то легко, на все приглашения он отвечал все тем же вежливым, но решительным отказом.
– Вот всеядные животные, эти супруги Грассини! – сказал как-то раз Мартини Джемме, переходя с нею через площадь Синьории в одно холодное воскресное утро. – Заметили вы, как они поклонились, когда подъехала коляска кардинала? Им все равно, что за человек, – лишь бы о нем кричали. В жизни своей не видел таких неустрашимых охотников на львов. Еще недавно, в августе, – Овод, а теперь – Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным этим вниманием. Он делит его с порядочной оравой авантюристов.
Они шли из собора, где в тот день говорил проповедь Монтанелли. Громадное здание было так переполнено народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что Мартини, боясь, чтобы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы. После целой недели дождей это было первое солнечное утро, и, пользуясь этим, Мартини предложил Джемме погулять по садам на склонах холмов, окружающих Сан-Николо.
– Нет, – сказала она, – я охотно пройдусь, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Походим лучше по Лунг-Арно: там проедет Монтанелли на обратном пути из церкви, а мне, как Грассини, захотелось видеть знаменитость.
– Но вы ведь только что видели его.
– Недостаточно близко. В соборе была такая давка… а когда он проезжал, мы видели только его спину. Если мы будем держаться ближе к мосту, то, наверное, разглядим его хорошо – ведь он живет на Лунг-Арно.
– Но откуда у вас такое страстное желание видеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.
– Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его последний раз.
– А когда вы его видели?
– Через два дня после смерти Артура.
Мартини с тревогой взглянул на нее. Они дошли теперь до Лунг-Арно, и она рассеянно смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так его пугал.
– Джемма, дорогая, – сказал он минуту спустя, – неужели это печальное воспоминание будет преследовать вас всю жизнь? Кто из нас не делал ошибок в семнадцать лет?
– Но не каждый из нас в семнадцать лет убивал своего лучшего друга, – ответила она усталым голосом. Облокотившись на каменные перила моста, она упорно смотрела вниз на реку. Мартини молчал: он почти боялся заговорить с ней, когда на нее находило такое настроение.
Они молча перешли мост и пошли по набережной. Через несколько минут она снова заговорила:
– Какой красивый голос у этого человека! В нем есть что-то такое, чего я не замечала ни в одном человеческом голосе. В этом, я думаю, и секрет по крайней мере половины его обаяния.
– Да, голос чудесный, – подхватил Мартини, пользуясь этой новой темой, чтобы отвлечь ее мысли от страшных воспоминаний, навеянных видом реки. – Да и помимо голоса он лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет его обаяния кроется даже не в этом, а глубже: в его безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли вы укажете другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого Папы, с такой абсолютно незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в его епархии, и я видел, как суровые горцы ожидали под дождем его проезда, чтобы хоть мельком взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтут его почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье вообще ненавидят всех, кто носит рясу. Я сказал как-то одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Мы не любим попов, все они лгуны. Но монсеньора Монтанелли мы любим. Никто никогда не слыхал, чтобы он сказал неправду или поступил несправедливо».
– Интересно знать, – сказала Джемма, скорее думая вслух, чем обращаясь к Мартини, – известно ли ему, что о нем думает народ?
– Как это может быть ему известно? Ведь то, что о нем думают, правда.
– Нет, неправда.
– Почему вы это знаете?
– Он сам мне сказал.
– Он? Монтанелли? Джемма, что вы хотите сказать?
Она откинула волосы со лба и повернулась к нему.
Они опять стали над рекой; он облокотился на перила, а она медленно чертила зонтиком по камням.
– Чезаре, мы с вами уже давнишние друзья, но я никогда не рассказывала вам всего, что случилось с Артуром.
– И не надо рассказывать, дорогая, – поспешно остановил он ее. – Все это я уже знаю.
– Вам рассказал Джованни?
– Да, перед смертью, в одну из тех ночей, которые я просиживал возле него. Он сказал мне еще… Джемма, дорогая, раз мы заговорили об этом, то лучше уж скажу вам всю правду… он сказал, что вас постоянно мучит воспоминание об этом несчастном событии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от этих мыслей. И я делал что мог, хотя, кажется, безуспешно, – все, что мог.
– Я знаю, – ответила она, подняв на него глаза. – Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы. А о монсеньоре Монтанелли он вам тогда ничего не говорил?
– Нет. Я и не подозревал, что Монтанелли имеет какое-нибудь отношение к этой истории. Он рассказал мне только об этом деле с предательством и…
– И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.
Они повернули к мосту, через который скоро должен был проехать кардинал. Джемма начала говорить, не отрывая глаз от воды:
– Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии, а когда Артур поступил в университет, они часто читали вместе. Они очень любили друг друга и были похожи, скорее, на любящих друзей, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что он утопится, если лишится своего падре. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, затем вы знаете, что случилось из-за доноса шпиона… На следующий день мой отец и Бертоны – сводные братья Артура, препротивные люди, – целый день пробыли у реки, отыскивая труп, а я сидела в своей комнате и думала о том, что я сделала.
Она приостановилась на несколько секунд и потом продолжала:
– Поздно вечером ко мне зашел мой отец и сказал: «Джемма, милая, сойди вниз; там пришел какой-то человек: ему нужно тебя видеть». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Весь бледный, дрожа, он рассказал мне, что от Джованни из тюрьмы получено второе письмо, в котором сообщалось, что, как там узнали от одного надзирателя, Артур попал в ловушку на исповеди и что его выдал Карди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы знаем, что Артур не виноват». Отец взял меня за руки, стараясь успокоить. Он тогда еще не знал, что я сделала. Я вернулась к себе в комнату и просидела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны опять отправились к реке. У них еще оставалась надежда найти тело.
– Но ведь его не нашли?
– Не нашли. Да его и должно было унести в море. Я осталась одна. Пришла служанка и сказала, что сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что моего отца нет дома, ушел. Я догадалась, что это был Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у калитки сада. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он сейчас же остановился и молча ждал, что я скажу. О, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами целые месяцы после того! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена… Это я убила Артура». И рассказала ему все как было, а он стоял неподвижно, точно высеченный из камня, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое: не вы его убийца, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Он быстро повернулся и вышел за калитку, не прибавив больше ни слова.
– А потом?
– Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в каком-то припадке – это было недалеко от гавани – и его внесли в один из ближайших домов. Вот все, что я знаю. Мой отец сделал все, что мог, чтобы успокоить меня. Когда я рассказала ему все, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, чтобы удалить от всего, что могло напоминать мне о прошлом. Он боялся, как бы я тоже не покончила с собой, и, кажется, я действительно была близка к этому одно время. А потом, вы знаете, когда обнаружилось, что отец болен раком, я должна была взять себя в руки – ведь, кроме меня, не было никого, кто бы мог ухаживать за ним. После его смерти дети оставались на моих руках, пока у моего старшего брата не явилась возможность взять их к себе в дом. Потом приехал Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что и он приложил тут свою руку, – за несчастное письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.
Мартини улыбнулся и покачал головой.
– Может быть, с вашей стороны так и было, – сказал он, – но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас. А, вот и кардинал!
Коляска переехала мост и подкатила к большому дому на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся перед его домом, чтобы хоть мельком взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее его лицо в соборе, совершенно угасло и сменилось выражением заботы и усталости. Когда он вышел из коляски и тяжелой старческой поступью вошел в дом, Джемма повернула назад и медленно пошла к мосту.
– Меня часто занимала мысль, – заговорила она снова, – в чем он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову… вам, может быть, это покажется странным… но между ними такое необыкновенное сходство…
– Между кем?
– Между Артуром и Монтанелли. И это не я одна замечала. Кроме того, было что-то загадочное во взаимных отношениях членов семьи Артура. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых привлекательных женщин, каких я знала. У нее было такое же одухотворенное лицо, как и у Артура, да и характером они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. И жена ее пасынка обращалась с ней возмутительно грубо. Да и сам Артур был так непохож на всех этих вульгарных Бертонов… В детстве, конечно, часто не отдаешь себе отчета в том, что наблюдаешь. Когда потом я восстанавливала в памяти прошлое, мне часто приходило в голову, что Артур – не Бертон. Возможно, что он узнал что-нибудь о матери.
– Если так, то это и могло быть причиной его смерти, и тогда предательство Карди ни при чем, – вставил Мартини, думая доставить ей некоторое облегчение этой догадкой.
Но она покачала головой:
– Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я ударила его, вы бы этого не подумали. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны – в них нет ничего не правдоподобного… Но что я сделала – то сделала.
Они прошли несколько минут, не говоря ни слова.
– Дорогая Джемма, – заговорил наконец Мартини, – если бы на земле существовали способы менять то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками; но раз нельзя их исправить – пусть мертвые оплакивают мертвых. История ужасная, это правда. Но бедный юноша, пожалуй, все-таки счастливее многих из оставшихся в живых, которые теперь сидят по тюрьмам или находятся в изгнании. Вот о ком мы с вами должны думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорит ваш любимец Шелли{58}: «Прошлое принадлежит смерти, а тебе – будущее». Берите его, пока оно еще ваше, и думайте не о том, что вы когда-то давно сделали дурного, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.