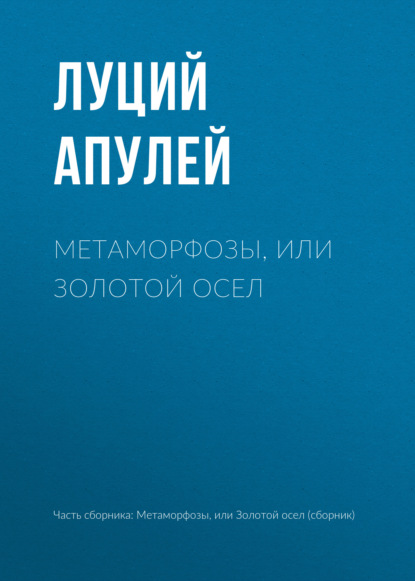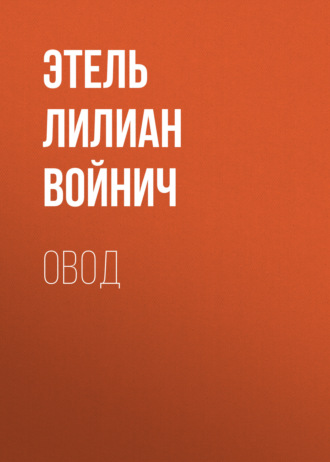 полная версия
полная версияОвод
– Я – неутомимый книгоед, – сказал ректор. – Первое, за что я принялся на новом месте, – это за пересмотр библиотеки. Библиотека очень богата, но я не улавливаю системы, по которой распределены книги.
– Каталог неполон. Значительная часть ценных книг прибавилась недавно.
– Располагаете вы свободным получасом, чтобы объяснить мне план расположения книг?
Они вошли в библиотеку. Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:
– Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота – время закончить занятия до утра понедельника. Оставайтесь, поужинаем вместе, – все равно я задержал уже вас до позднего часа. Я теперь совсем один и буду рад обществу.
Его обращение было так непринужденно-приветливо, что Артур скоро почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, как давно он знает Монтанелли.
– Около семи лет, – ответил Артур. – Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать лет.
– А, да! Это там он приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор он руководил вашим образованием?
– Он начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в Сапиенцу, он продолжал помогать мне по части наук во всем, что не входило в университетский курс. Относился он ко мне необыкновенно сердечно, – вы и представить себе не можете, как добр он был ко мне!..
– Отлично представляю. Все восхищаются этим человеком: благородная, прекрасная душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в тяжелые моменты, его несокрушимую веру. Вы счастливы, что в ваши юные годы вами руководил такой человек. Я понял из его слов, что вы лишились отца и матери.
– Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, а мать – год тому назад.
– Есть у вас братья, сестры?
– Нет, только сводные братья… Но они были уже взрослыми и вели торговые дела, когда меня еще нянчили.
– Вероятно, вы росли одиноким. Потому-то вы так особенно и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отлучки?
– Я думал обратиться к отцам Святой Катарины.
– Хотите исповедоваться у меня?
Артур смотрел удивленными глазами:
– Отец мой, конечно, я… я был бы рад, но только…
– Только ректор духовной семинарии обыкновенно не исповедует мирян – это вы хотите сказать? Вы правы. Но, видите, я знаю: каноник Монтанелли очень заботится о вас и, как мне думается, тревожится о вашем благополучии. Это – понятно… Случись мне расстаться с любимым воспитанником, я и сам бы тревожился за него. Я уверен: он был бы спокойнее, если бы знал, что его коллега печется о вашей душе. Будьте просты со мной, сын мой; скажите прямо – согласны вы иметь меня своим духовным отцом? Я к вам расположен и рад быть вам полезен.
– Если так, то, конечно, я буду вам очень признателен.
– Прекрасно. В таком случае приходите исповедоваться в будущем месяце. А кроме того, заходите ко мне, сын мой, как только у вас выдастся свободный вечер.
Незадолго до Пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Сам Монтанелли писал об этом Артуру еще из Рима, писал в спокойном, радостном тоне. Было ясно, что его угнетенное настроение начинало проходить. «Ты должен навещать меня каждые каникулы, – писал он, – а я буду наезжать в Пизу. Надеюсь видеться с тобой, хотя и не так часто, как хотелось бы».
Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники с ним и его семьей вместо того, чтобы скучать эти дни в мрачном, изъеденном крысами, старом палаццо, где теперь безраздельно царила Юлия. В это письмо была вложена нацарапанная неровным детским почерком записочка, в которой Джемма присоединяла к приглашению отца и свою просьбу заехать к ним. «Мне нужно кое о чем с вами переговорить», – писала она.
Еще больше волновали и радовали Артура слухи, которые студенты шепотом передавали друг другу. Все ждали после Пасхи крупных событий.
Все это породило в Артуре настроение такого восторженного ожидания, что самые страшные вещи казались ему вполне естественными, исполнимыми, могущими осуществиться даже в течение двух ближайших месяцев.
Он решил, что в четверг на Страстной неделе поедет домой и пробудет там первые дни отпуска. Он боялся, что радость свидания с Джеммой отвлечет его от торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих детей в эти дни. В среду вечером Артур ответил Джемме обещанием приехать в пасхальный понедельник и с миром в душе пошел спать.
Войдя в спальню, он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь ему предстояло долгой и усердной молитвой подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. На коленях, со скрещенными руками и склоненной головой, он обращался мысленно назад, к прошедшему месяцу, и пересчитывал свои маленькие грехи, вспоминая разные случаи, когда он проявлял нетерпение, легкомыслие, раздражительность. Но все это были мелкие прегрешения, ложившиеся лишь слабым пятном на его душевную чистоту. Он перекрестился, встал и начал раздеваться.
Когда он расстегнул ворот рубашки, из-под нее выпал лоскуток бумаги и полетел на пол. Это была записка Джеммы, которую он носил весь день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал; потом стал снова складывать листок со смутным сознанием, что он сделал что-то неподходящее, и в этот момент заметил на обороте приписку, которой раньше не читал: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее: я хочу познакомить вас с Боллой, он здесь, и мы каждый день читаем вместе».
Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки.
«Вечно этот Болла! Что он опять делает в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось читать вместе с ним? Что ее прельщает в его контрабандных делах? Он ее совсем околдовал. Уже в январе на собрании было заметно, что он влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, читает с ней каждый день».
Порывистым жестом Артур отбросил в сторону записку и снова опустился на колени перед распятием.
И это – душа, готовившаяся принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, которая должна примириться с собой, со всем миром, с Господом! Эта душа способна на низкую ревность, на грязные подозрения, способна питать мелкую зависть, да еще к товарищу! В порыве самобичевания он закрыл лицо руками. Всего пять минут тому назад он носился с мечтами о мученичестве, а теперь стоит как преступник, и совесть уличает его.
Утром в четверг он вошел в часовню семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя Символ веры, он сейчас же стал говорить о своем душевном падении прошлой ночи.
– Отец мой, я грешен – грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не сделал мне никакого зла.
Отец Карди отлично понимал, с кем он имеет дело. Он мягко сказал:
– Вы мне не все открыли, сын мой.
– Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить, особенно уважать.
– Вы связаны с ним кровными узами?
– Еще теснее, еще крепче!
– То есть как, сын мой?
– Я связан с ним узами товарищества.
– Товарищества? В чем?
– В великой и священной работе.
Последовала небольшая пауза.
– И ваша злоба к этому товарищу, ваша зависть к нему вызвана успехом его в этой работе, успехом, более громким, чем ваш?
– Да, отчасти. Я позавидовал его опытности, за которую все его ценят. А кроме того… я думал… Я боялся, что он отнимет у меня любовь той девушки, которую я люблю.
– А девушка, которую вы любите, – дочь святой церкви?
– Нет, она протестантка.
– Еретичка?
Артур стиснул руки в отчаянии.
– Да, еретичка, – повторил он. – Мы вместе воспитывались. Наши матери были друзьями. И вот я позавидовал ему, так как видел, что и он любит ее. И еще…
– Сын мой, – не спеша, серьезным тоном заговорил отец Карди, помолчав, – вы еще не все мне открыли. У вас на сердце есть что-то поважнее.
– Отец, я…
Артур запнулся и снова замолчал. Отец-исповедник ожидал, пока он заговорит.
– Я позавидовал ему потому, что организация «Молодая Италия», к которой я принадлежу…
– Да?
– Организация доверила ему одно дело, а я надеялся, что оно будет поручено мне. Я считал себя особенно пригодным для него.
– Какое же это дело?
– Прием книг с пароходов, политических книг. Их нужно было взять с парохода, а потом подыскать в городе помещение, где можно было бы их спрятать.
– И эту работу организация передала сопернику?
– Передала Болле, и этому я позавидовал.
– А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которую возложили на него?
– Нет, отец. Он действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и я должен бы питать к нему любовь и уважение.
Отец Карди что-то обдумывал.
– Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к самому драгоценному дару Господню. Все блага – дело Его рук. И рождение ваше в новую жизнь – от Него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру; если вы соединились с любимыми вами товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит о своей горькой доле, то позаботьтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это святое и великое дело, и сердцу, которое проникнется им, должны быть чужды своекорыстные помыслы. Это призвание, так же, как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих увлечений. Оно «во имя Бога и народа, теперь и навсегда».
– А! – Артур всплеснул руками, пораженный.
Он чуть не разрыдался, услыхав знакомый лозунг.
– Отец мой, вы даете нам благословение церкви! С нами – Христос.
– Сын мой, – торжественно ответил священник, – Христос изгнал менял из храма{21}, ибо дом Его – дом молитвы, а они его сделали вертепом разбойников.
После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:
– И Италия будет храмом Его, когда их изгонят…
Он остановился. В ответ раздался мягкий голос:
– «Земля и все ее богатства – Мои», – сказал Господь.
Глава V
Весь этот день Артуру хотелось ходить без конца. Он сдал свой багаж товарищу-студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.
День был сырой и облачный, но не холодный, и низкая ровная местность казалась ему прекраснее, чем когда-либо. Он чувствовал особую радость от мягкости сырой травы под ногами и от робкого, изумленного вида диких весенних цветов у дороги. В кусте акации на опушке маленького леса птица свивала гнездо и при его появлении с испуганным криком взвилась на воздух быстрым движением темных крыльев.
Он пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун Великой пятницы. Но два образа – Монтанелли и Джеммы – все время мешали его благочестивым намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к чудесам и славе грядущего восстания и той роли, которую он предназначал в нем двум своим идолам. Падре был в его воображении вождем, апостолом, пророком, перед священным гневом которого исчезали все темные силы. У его ног юные защитники свободы должны будут сызнова учиться старой вере, старым истинам в их новом, еще неизвестном значении.
А Джемма?
О, Джемма будет защитницей баррикад. Она создана быть героиней в предстоящем восстании. Она будет безупречным товарищем, чистой и бесстрашной девушкой, тем идеальным образом, которым вдохновлялся уже не один поэт. Она рядом с ним, плечо к плечу, и с улыбкой посмотрит в лицо крылатой смертоносной буре. Они вместе умрут, и это случится, может быть, в момент победы, ибо победа не может не прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее душевное чувство к товарищу. Ему она представлялась святыней, беспорочной жертвой, которой суждено быть возложенной на алтарь за свободу народа. И кто он такой, чтобы посметь войти в святая святых души, которая не знает иной любви, кроме любви к Богу и Италии?
Бог и Италия… Неожиданно упала с туч дождевая капля, когда он входил в большой мрачный дом, смотревший своим фасадом на улицу дворцов. На лестнице его встретил дворецкий Юлии, безукоризненно одетый, спокойный, учтивый, как всегда, и, как всегда, враждебный.
– Добрый вечер, Джиббонс. Дома братья?
– Мистер Томас дома. И миссис Бертон тоже. Они в гостиной.
Артур вошел с тяжелым, тоскливым чувством. Какой скучный дом! Поток жизни, никогда не задевая его, проносился мимо него. Все в нем оставалось без перемен – люди, фамильные портреты, дорогая безвкусная обстановка, безобразные блюда, развешенные по стенам, мещанское чванство богатством и безжизненный отпечаток, лежавший на всем. Даже цветы, стоящие на бронзовых подставках, казались искусственными, вырезанными из металла. Им как будто незнакома была игра молодого сока в жилах при свете теплого весеннего дня. А сама Юлия, разодетая к обеду и ожидающая гостей в своей гостиной, бывшей центром ее существования, смело могла бы сойти за куклу со своей застывшей улыбкой, с белокурыми завитками на висках и с собачонкой, лежавшей у нее на коленях.
– Как поживаешь, Артур? – спросила она сухо, протягивая ему на минуту кончики пальцев и перенося их тотчас же на шелковистую шерсть своей собачки, более приятную на ощупь. – Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься в университете.
Артур произнес первую фразу, которая пришла ему в голову; снова наступило тягостное молчание. Не внес оживления и приход надутого, важничающего Джемса; его сопровождал пожилой чопорный агент какого-то пароходного общества. Когда доложили, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения.
– Я не буду сегодня обедать, Юлия. Прошу извинить меня, но я удаляюсь в свою комнату.
– Ты слишком строго соблюдаешь пост, – сказал Томас. – Я уверен, что ты заболеешь.
– О нет. Спокойной ночи.
В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов.
– Синьорино{22} идет в церковь? – спросила она.
– Да. Спокойной ночи, Тереза.
Он вошел в свою комнату. Она принадлежала его матери. Альков, приходившийся против окна, был превращен в часовню во время ее продолжительной болезни. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину алтаря. Перед ним висела лампада. В этой комнате она умерла. На стене, над постелью, висел ее портрет. На столе стояла принадлежавшая ей китайская ваза с букетом фиалок – ее любимых цветов. Минул ровно год со дня ее смерти. Слуги-итальянцы не забыли ее.
Артур вынул из чемодана портрет, тщательно завернутый и вставленный в рамку… Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли. Он с нежностью стал развертывать свое сокровище. В этот момент вошел мальчик, грум Юлии. Он держал в руках поднос. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой строгой хозяйки, уставила этот поднос всякими деликатесами, которые, как она знала, ее дорогой синьорино мог покушать, не нарушая церковных правил. Артур взял только кусок хлеба, а от прочего отказался. Он вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя для молитвы и благочестивых размышлений. Ему это долго не удавалось.
Он и в самом деле, как сказал ему Томас, слишком усердствовал в соблюдении великопостных правил. Лишения, которым он себя подвергал, подействовали на его голову, как крепкое вино. По его спине пробежала легкая дрожь. Распятие стояло перед его глазами, как будто окутанное туманом. Он механически произнес несколько раз длинную молитву, и только этим путем удалось ему сосредоточить свое блуждающее внимание на тайне искупления. Наконец физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он улегся спать, свободный от тревожных и тяжелых дум.
Спал он крепко. Вдруг раздался сильный стук в дверь.
«А, Тереза», – подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.
Стук повторился. Он в испуге проснулся.
– Синьорино! Синьорино! – крикнул кто-то по-итальянски.
Он соскочил с постели.
– Что случилось? Кто там?
– Это я, Джиан Баттиста. Вставайте, ради бога, скорее!
Артур торопливо оделся и отпер дверь. Растерявшись, он смотрел на бледное, искаженное от ужаса лицо кучера. По коридору раздавался стук шагов и лязг металла. Он быстро сообразил, что это значит.
– За мной? – спросил он спокойно.
– За вами! О синьорино, торопитесь! Что вам нужно спрятать? Я могу…
– У меня ничего нет. Братья знают?
На повороте коридора показался первый мундир.
– Синьора разбудили. Весь дом проснулся! О, какое горе, какое ужасное горе! И еще в Страстную пятницу. Угодники Божьи, сжальтесь над нами!
Джиан Баттиста разрыдался.
Артур сделал несколько шагов вперед и ждал жандармов. Они вошли в комнату в сопровождении толпы слуг, одетых во что попало. Артура окружили солдаты. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он – в туфлях и в халате, а она – в длинном пеньюаре с папильотками в волосах.
«Как будто наступает второй потоп, и эти пары, спасаясь, двигаются в ковчег! Вот, например, пара престранных животных!»
Это сравнение мелькнуло в голове Артура, пока он смотрел на стоявшие перед ним смешные фигуры.
Он едва удерживался от смеха, сознавая всю его неуместность в такую серьезную минуту.
– Ave, Maria, Regina, Coeli{23}, – прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть торчащих папильоток Юлии, вводивших его в искушение.
– Будьте добры, объясните мне, – сказал мистер Бертон, приближаясь к жандармскому офицеру, – что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому посланнику, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.
– Думаю, что этого будет достаточно как для вас, так и для английского посланника, – произнес офицер с сознанием собственного достоинства.
Он развернул приказ об аресте Артура Бертона, студента философии, и вручил его Джемсу, холодно прибавив:
– Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую обратиться к начальнику полиции.
Юлия вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура так грубо, как только может это сделать пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.
– Так это вы опозорили нашу семью! – вопила она. – Из-за вас вся эта городская чернь собралась, словно на базаре, и скалит зубы по нашему адресу! Хорошо, нечего сказать! Со своим благочестием, миленький, в тюрьму угодили. Впрочем, чего же было и ожидать от сына католички…
– Сударыня, с арестованным не полагается говорить на иностранном языке, – прервал ее офицер, но его замечание потонуло в потоке английских ругательств, лившихся из уст Юлии.
Как-то доктор Уоррен сравнил Юлию с салатом, в который повар вылил полную склянку уксуса. Ее визгливый, пронзительный голос заставлял Артура стискивать зубы. И вот теперь ему вдруг вспомнилось сравнение доктора.
– Какой смысл разговаривать об этом? – сказал он. – Вам нечего опасаться неприятностей. Всем понятно, что вы совершенно невинны. Я полагаю, – прибавил он, обращаясь к жандармам, – вы хотите осмотреть мои вещи.
Пока жандармы обыскивали комнату, перечитывали письма, просматривали университетские бумаги и выдвигали ящики, он сидел на краю постели и ждал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал все письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды.
После долгого сопротивления Юлия уступила настояниям своего деверя и пошла спать, окинув Артура презрительным взглядом. Джемс покорно последовал за ней.
Когда они вышли из комнаты, Томас, который все это время шагал взад и вперед, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Получив согласие, он приблизился к Артуру и пробормотал поспешно:
– Чертовски неприятная история! Я ужасно огорчен.
Артур взглянул на него ясными глазами.
– Вы были всегда добры ко мне, – сказал он. – Вам нечего беспокоиться. Мне ничто серьезное не угрожает.
– Вот что, Артур! – Томас нервно теребил усы, не решаясь задать неприятный вопрос. – А что, эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам? – спросил он наконец. – Потому что, если это так, то я…
– К денежным делам? Нет, конечно. Что может быть тут общего?..
– В таком случае это какая-нибудь политическая чепуха? Я и раньше кое-что подозревал. Ну, что же делать… Не смущайтесь и не обращайте внимания на глупые выходки Юлии: вы ведь знаете, какой у нее язык. Так вот, если нужна будет моя помощь – деньги или еще что, – дайте знать.
Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел из комнаты, стараясь придать своему лицу выражение равнодушия.
Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер попросил Артура надеть пальто. Артур сейчас же это исполнил и повернулся, чтобы выйти, но остановился в нерешительности: ему было тяжело прощаться с комнатой в присутствии полиции.
– Вы не могли бы… вы не могли бы выйти на минуту из комнаты? – спросил он одного из жандармов. – Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего.
– Мне очень жаль, но мы не можем этого сделать: арестованных запрещено оставлять одних.
– Что ж делать, пусть так.
Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.
– Это ваш родственник? – спросил он.
– Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризигеллы.
На лестнице итальянская прислуга ожидала его, тревожная и опечаленная. Все любили Артура, как прежде любили его мать, и теперь теснились вокруг него с грустными лицами. Джиан Баттиста стоял тут же, и слезы катились на его седые усы. Никто из Бертонов не вышел провожать арестанта. Их холодность только сильнее подчеркивала преданность и любовь слуг, и Артур был совсем растроган, пожимая протянутые к нему руки.
– Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй детей за меня! Прощайте, Тереза! Прощайте, прощайте…
Он быстро сбежал с лестницы к входной двери.
Через минуту маленькая группа безмолвных мужчин и рыдающих женщин стояла у дверей, глядя вслед уезжающей коляске.
Глава VI
Артур был заключен в средневековую крепость громадных размеров, расположенную у самой гавани. Тюремная жизнь показалась ему довольно сносной. В его камере неприятно поражали темнота и сырость, но он вырос в старом палаццо{24}, и ни спертый воздух, ни крысы, ни тяжелый запах не были для него новостью. Тюремная пища была плоха, и ее давали мало, но скоро его брату Джемсу дано было разрешение присылать в тюрьму все необходимое. Артур сидел в одиночном заключении, и хотя надзор за ним был не так строг, как он того ожидал, он все-таки не мог получить объяснения причины своего ареста. И тем не менее его не покидало душевное спокойствие. Ему не разрешали читать, и все время проходило у него в молитве и благочестивых размышлениях.
Терпеливо и спокойно он ожидал дальнейших событий.
Однажды утром солдат отпер дверь камеры и сказал: «Пожалуйте!» После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещено», – Артур покорился неизбежному и побрел за солдатом через целый лабиринт дворов, коридоров и лестниц. Наконец он добрался до большой светлой комнаты, где за длинным столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами, сидели трое военных со скучающими лицами, перебрасываясь отрывочными фразами. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой, с седыми бакенбардами, щеголевато одетый полковник, указал ему на стул, стоявший по другую сторону стола, и приступил к предварительному допросу.
Артур ожидал угроз, оскорблений, ругательств и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник был чопорен, холоден, по-казенному сух, но безукоризненно вежлив. Были предложены шаблонные вопросы об имени, возрасте, национальности, социальном положении. Артур отвечал, и за ним записывали в однообразном, наводящем скуку порядке.
Он уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:
– Ну а теперь, мистер Бертон, расскажите нам, что вам известно о «Молодой Италии».