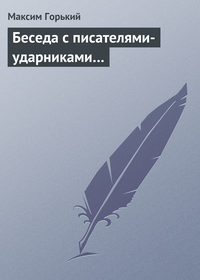полная версия
полная версияДетство. В людях. Мои университеты
Старший согласился:
– Не позволит…
– А мать у вас есть?
– Нет, – сказал старший, но средний поправил его:
– Есть, только – другая, не наша, а нашей – нет, она померла.
– Другая называется – мачеха, – сказал я; старший кивнул головою:
– Да.
И все трое задумались, стемнели.
По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:
– Еще вернется родная-то, погодите!
Старший пожал плечами:
– Если умерла? Этого не бывает…
Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыснуть живою водой, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!
Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории; старший сначала все усмехался и говорил тихонько:
– Это мы знаем, это – сказки…
Его братья слушали молча, маленький – плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, – наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его.
Уже сильно завечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.
– Это кто такое? – спросил он, указывая на меня пальцем.
Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:
– Он – оттуда…
– Кто его звал?
Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.
Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:
– Не смей ходить ко мне!
Я рассердился:
– Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!
Длинной рукою своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:
– Твой дед дома?
На мое горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:
– Мать у него – в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, – уж вы простите, полковник!
Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел, а меня, через некоторое время, выбросили на двор, в телегу дяди Петра.
– Опять нарвался, сударик? – спрашивал он, распрягая лошадь. – За что бит?
Когда я рассказал ему – за что, он вспыхнул и зашипел:
– А ты нашто подружился с ними? Они – барчуки-змееныши, вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй – чего глядеть!
Он шипел долго; обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной неповинны.
– Их бить – не нужно, они хорошие, а ты врешь все, – сказал я.
Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:
– Пошел прочь с телеги!
– Дурак ты! – крикнул я, соскочив на землю.
Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать, бегал и неестественно кричал:
– Дурак я? Вру я? Так я ж тебя…
На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:
– Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня – по матушке и всяко… и вралем…
Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала:
– Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь, – зазорно он тебя не ругал!
Дедушка поверил бы извозчику.
С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался, однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном – на сношениях с барчуками; ловил и шел ябедничать к деду.
Знакомство с барчуками продолжалось, становясь все приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.
Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце, – по крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей.
Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:
– Бабушки, должно быть, все очень хорошие, – у нас тоже хорошая была…
Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он – тонкий, хрупкий, а глаза – очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним, – всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.
Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр, разгонял нас тягучим возгласом:
– О-опя-ать?
Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы: обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.
Его немой племянник уехал в деревню жениться; Петр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака, – из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь не гася лампу, что очень не нравилось деду.
– Гляди, сожжешь ты меня, Петр!
– Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, – отвечал он, глядя в сторону.
Он теперь вообще смотрел все как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.
Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь, – вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал:
– Здесь! Когда? Дай бог память…
И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:
– Господи помилуй, неужто?
– Тише, – строго сказал полицейский.
Дед оглянулся, увидал меня.
– Прибери лопаты да ступай домой!
Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:
– Он понимает; лошадь бросил, а сам – скрылся вот…
Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою; выслушав меня, она спокойно сказала:
– Украл, видно, чего-нибудь… Иди, гуляй, что тебе!
Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала.
– Я сказал – пошел домой! – крикнул он мне, притопнув.
И сам пошел за мною, а войдя в кухню, позвал:
– Подь-ка сюда, мать!
Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.
– Ты чего испугалась?
– Молчи, знай, – тихонько ответила она.
Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу.
– Ты, мать, зажги-ко лампадки везде, – приказывал дед, покашливая.
Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щеки, крякал и ворчал:
– Силен дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто, и церковник, а – на-ко ты, а?
Бабушка вздыхала.
Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойней, тяжелее.
Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» – он отвечал не сразу и густо:
– У нас до всего дознаются, не беспокойсь!
Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.
Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:
– Глядите, что у вас на задах-то!
Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал:
– Постой, – кто такая? Чего глядеть?
Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами:
– Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?
Тут яростно закричал дед, топая ногами:
– Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нем нет, врешь! Ничего у нас нет!
– Батюшка! – выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. – Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу – лежит он…
– Кто-о?
Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад, – там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, темные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:
– Не топчите следов!
Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:
– А ты зря орешь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, – эх, вы-и!
И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь.
Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:
– Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!
Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом…
– Что он сделал? – спросил я; она ответила:
– Али не видишь…
Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крякая, точно утка:
– Как? Как?
Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:
– Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой – вовсе не немой и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство…
– О, Господи, – вздыхала Петровна, красная и мокрая.
Я лежал на полатях, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными…
Глава X
Однажды в субботу, рано утром, я ушел в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованному насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.
Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет, улетая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы…
Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошел домой, – ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряженных в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, – у меня дрогнуло сердце.
– Кого привез?
Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:
– Попа!
Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.
– Эх, курочки-и! – закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова:
– Что же теперь – убить меня надо?
Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:
– Мать приехала, ступай! Постой… – Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: – Иди, иди…
Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный.
– Вот он, – говорила мать. – Господи, какой большущий! Что, не узнаешь? Как вы его одеваете, ну уж… Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусиного сала скорей…
Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застегивали большие черные пуговицы от плеча и – наискось – до подола. Никогда я не видел такого платья.
Лицо ее мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, ее малиновые губы брезгливо кривились, и все звучал командующий голос:
– Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка…
Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от нее исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки:
– Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится… Эх, Варя, Варя…
– Ну, не нойте, мамаша, обойдется!
В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжелой, теплой рукой, она говорила:
– Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?
– Я уж выучился.
– Еще немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?
И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.
Вошел дед, серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:
– Ну, что же, папаша? Уезжать?
Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле, долго молчал, все вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда, в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.
– Лексей, поди вон, – глухо сказал дед.
– Зачем? – спросила мать, снова привлекая меня к себе.
– Никуда ты не поедешь, запрещаю…
Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.
– Папаша, послушайте…
Он обернулся к ней, взвизгнув:
– Молчи!
– Ну, а кричать на меня я вам не позволю, – тихо сказала мать.
Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:
– Варвара!
А дед сел на стул, забормотал:
– Постой, я – кто? А? Как это?
И вдруг взревел не своим голосом:
– Опозорила ты меня, Варька-а!..
– Уйди, – приказала мне бабушка, я ушел в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то – говорили все сразу, перебивая друг друга, то – молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка?
Потом он вошел в кухню встрепанный, багровый и усталый, за ним – бабушка, отирая полою кофты слезы со щек; он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустилась на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:
– Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина, – гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен…
Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:
– Ну, да, еще бы! А как же? Ты кого не простишь, ты – всех простишь, ну, да-а, эх, вы-и…
Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро:
– А господь, небойсь, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а – ни покоя, ни радости нет и – не быть! И – помяни ты мое слово! – еще нищими подохнем, нищими!
Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.
– Эка беда! Чего испугался – нищими! Ну, и – нищими. Ты, знай, сиди себе дома, а по миру-то я пойду, – небойсь, мне подадут, сыты будем! Ты – брось-ка всё!
Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:
– Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, – ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы…
Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:
– Ах ты, бесеныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого черта, злого, – прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, – прочь? Эх, вы-и…
Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:
– Отходят все, все в сторону норовят – все врозь идет… Ну, зови ее, что ли! Скорее уж…
Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:
– Всемилостивый Господи, ну – вот, видишь, вот!
И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.
Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.
Уставший от волнений, я крепко заснул на полатях.
Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:
– Ты гляди, каков отец-то, – козленок чистенький!
Мать весело засмеялась.
Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:
– Иди ко мне! Ну, как ты живешь – плохо, а?
Как я жил?
– Не знаю.
– Дедушка бьет?
– Теперь – не очень уж.
– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?
Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот, в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:
– Ну, а еще что?
Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.
– Экая дрянь…
И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:
– За что дед сердился на тебя?
– Я пред ним виновата.
– А ты бы привезла ему ребенка-то…
Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.
– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!
Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.
На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.
– Ты когда ложишься спать?
– Немножко погодя.
– Впрочем, ты днем спал, – вспомнила она и вздохнула. Я спросил:
– Ты уйти хочешь?
– Куда же? – удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.
– Ты что это?
– Шею больно.
Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.
– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?
– Да.
– Она очень любила Максима, – очень! И он ее тоже…
– Я знаю.
Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:
– Так лучше!
Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.
– А где ты жила?
Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и все кружилась по комнате, бесшумно, как ястреб.
– А где ты взяла такое платье?
– Сама сшила. Я все себе делаю сама.
Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.
Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.
Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.
Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них – «Родному слову» – я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.
Стихи говорили:
Большая дорога, прямая дорога,Простора немало берешь ты у бога.Тебя не ровняли топор и лопата,Мягка ты копыту и пылью богата.Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».
– Ну, подумай, – внушала мать, – чего – простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?
Я понимал и все-таки читал «простого», сам себе удивляясь.
Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, – неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.