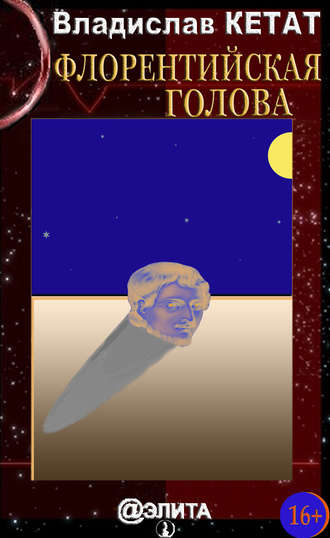
Полная версия
Флорентийская голова (сборник)
Представив эту странную матрёшку в разрезе, я улыбнулась. «Если козлоногий Костантино не наврал хотя бы половину, то от этой штуки мне будет толк», – подумала я, засыпая.
Всю дорогу до Флоренции я проспала, как сурок. Меня даже никто не удосужился разбудить во время санитарной остановки у какой-то заправки. Эту самую остановку, а вернее, цены в кафе на заправке и обсуждали мои пейзанки, пока мы все стояли в холле гостиницы «Mia Cara», ожидая, пока нас расселят.
– Суп – восемь евро! Второе – семь евро! – сокрушалась одна, – кофе – два евро! Булка – ещё три! – вторила ей другая.
– У-у-у-у-у, – одобрительно гудели остальные.
«Жрать меньше надо, – подумала я про себя, и порадовалась, что сэкономила двадцать евриков, – вот, считай горшок отбила…»
В номере я первым делом вынула здоровенный белый куль, в котором была голова, из чемодана, аккуратно его размотала и водрузила освобождённый горшок на подоконник. Голова выглядела абсолютно такой же, какой она была в Риме. Ничего не изменилось.
Немного подумав, я переставила горшок на журнальный столик; налила остатки вина в тарелку, окунула туда засохший хвост и пошла гулять по городу. У меня было два часа до экскурсии в галерею Уффици.
«Сегодня у меня в номере точно не придут убираться, а завтра посмотрим», – подумала я, закрывая за собой дверь.
Разумеется, на улице шёл дождь. Местные негры на каждом углу продавали разноцветные зонтики по два евро. Напялив на голову капюшон, я пошлёпала к Соборной площади.
Флоренция под проливным дождём, это, должно быть, самая безрадостная картина, которую я когда-либо видела, а мокрая Соборная площадь в особенности. «Здесь же всегда должно быть сухо, солнечно, все вокруг должны быть загорелыми красавцами и красавицами, – повторяла я про себя, – здесь просто не может быть столько воды под ногами…»
Там, куда я пришла, было очень много народу. Ещё издалека я заметила полчища цветных зонтиков, разукрасивших каждый уголок площади. «Странное дело, без этих зонтиков она казалась бы куда мрачнее, – подумала я, – получается, туристы сами себе делают праздник».
Первым делом, я направилась в собор «Санта Мария дель Флоре». Желающие попасть туда немцы с серьёзным видом выстроились в совершенно совковую очередь. Я только усмехнулась про себя. Спросила крайнего:
– Кто последний?
Тот улыбнулся и ответил:
– Ja!
Внутри меня обдало ощущение, испытанное почти во всех католических соборах – чёткое понимание того, что я здесь чужая. Скоренько пробежавшись по периметру, я выскочила наружу, где неожиданно окунулась в родную речь.
– Наша башня, безусловно, лучше Пизанской, – говорила длинная и мокрая экскурсоводша группе скучающих российских школьников, – она стоит прямо и никуда не падает!
Я шарахнулась от школьников и попыталась прорваться к золотым воротам баптистерия, но, не тут то было – они были перманентно облеплены туристами. На сколько мне удалось заметить, преобладали японцы. Они перемещались по площади мелкими группами по пять – шесть человек и фотографировались на фоне любой достопримечательности, делая при этом счастливые лица. Я на секунду представила себе альбом среднего японца, и мне натурально стало страшно.
Так и не прорвавшись к баптистерию, я решила залезть на ту самую башню, которая лучше Пизанской, и которая стоит и не падает. Заплатила три еврика и полезла.
Помнится, подъём на колоннаду Исаакиевского собора дался мне проще. Может, старая стала, или курить стала больше… короче говоря, за время подъёма я три раза останавливалась подышать. Вежливо пропускала вперёд тех, кто поздоровее, осматривала идиотские граффити, которыми были изуродованы все (то есть, абсолютно все) стены, как вдруг мой глаз из общей кучи выхватил странную надпись:
«Подвиг мой того стоил! Флоренция сверху – это даже лучше, чем Москва снизу. Михаил К., машинист московского метро».
«Господи, – подумала я, – куда ж мне от вас деться, дорогие сограждане».
Я проторчала на обзорной площадке башни минут двадцать. Выбрала место, откуда было видно, как на город сквозь пробоину в облаках прожектором било солнце, и стояла там до посинючки. Правда, спокойно постоять не дали, видимо сговорившись, самые разные люди постоянно просили меня их сфотографировать. Я вежливо улыбалась, брала в руки камеру, говорила: «Say: трусы-ы-ы», щёлк, и очередная пара счастливых рож на фоне песочных крыш была готова. Когда окно в облаках затянуло, я решила спуститься.
Теперь мне предстояло восполнить потери, понесённые в Риме, то есть, купить сумку. Вообще-то, у меня в планах на поездку и так значилось прикупить во Флоренции бумажник, перчатки и сумочку, так что я с чистой совестью направилась на Соломенный рынок у «Дель Порчеллино».
У бронзового хряка тоже была толпа. Снова японцы, японцы, японцы, и зонтики, зонтики, зонтики… Монетка кладётся на отполированный язык – бряк – монетка падает вниз, в решётку, люди радуются, люди фотографируются, некоторые даже от счастья хлопают.
– Итого: перчатки – тридцать евро, кошелёк – сорок, и сумочка – сто, – сказала мне крашеная Аня из Ленинграда, на которую я набрела в самом дальнем ряду, – скидок, извини делать не буду.
Я протянула Ане деньги, а та мне большой зелёный пакет с хапнутым.
– А ты, вообще, чем занимаешься? – спросила она, пересчитывая деньги.
– В банке работаю, – ответила я.
– Ха! – Аня сунула в рот тонкую сигарету. – У кого из наших ни спросишь, все в банке работают. (Я промолчала) А вообще, как там сейчас в совке? Давно не была.
– Жить можно, – ответила я и, поблагодарив соотечественницу, развернулась, чтобы уйти.
– Остерегайся цыган, – услышала я за спиной Анин голос.
Я обернулась.
– Чего?
– Я говорю, осторожней с румынами, они дикие, – пояснила Аня, – их даже карабинеры боятся.
На площади Синьории нас должен был ожидать Костантино, чтобы отвести в Уффици. Я припёрлась туда на полчаса раньше назначенного – ноги сами привели. Шла, шла и вдруг увидела знакомую башню.
Разумеется, тут тоже всё было мокрое, и народу здесь было больше, чем на Соборной. Издалека завидев бледные телеса, я потрусила к Давиду. Подойти ближе, чем на десять метров из-за толпы народа мне не удалось, поэтому пришлось довольствоваться малым.
«Нет, всё-таки хорош, сукин сын», – успела подумать я, как кто-то тронул меня за рукав. Я обернулась. На меня смотрел сияющий Костантино в чёрной кожаной куртке и белых джинсах. На руках у него были замшевые перчатки, а на шее небрежно болтался длинный полосатый шарф.
– Верно говорят, что женщины на площади Синьории стоят к статуе Давида лицом, а мужчины спиной, – сказал он. – Идите ко мне под зонт, Саша, – и, не дожидаясь моей реакции, сделал шаг в мою сторону. Над моей головой навис здоровенный прозрачный купол.
Сил сопротивляться его настойчивости не было.
– Шипящие звуки в русских женских именах придают им ни с чем не сравнимый шарм, Саша, – тихо произнёс Костантино и улыбнулся.
Я тоже улыбнулась, но не от комплемента, а оттого, что оказалась почти на голову выше моего коварного обольстителя. «Почему я раньше не замечала, что он такой мелкий», – подумала я, и мне стало ещё смешнее.
Улыбка быстро сошла с лица, так и не дождавшегося поцелуя Костантино, и он предложил прогуляться по площади, «пока все не подошли». Я согласилась, всё равно делать было нечего. Не успели мы дойти до Лоджии Ланци, как я поняла, что Костантино трудно нести надо мной зонт.
– Давайте я возьму, так будет удобнее, – сказала я и почти выхватила деревянную ручку из рук Костантино. Тот нехотя согласился.
Мы неспешно обошли по периметру всю площадь. Подходили к каждой статуе, останавливались и смотрели. Вернее, смотрела я, Костантино, глядя на меня, без умолку верещал. «Персей» Челлини, «Похищение сабинянок» Джамболоньи, его же «Геркулес и Кентавр», «Аякс с телом Патрокла» не помню кого – на всех у него нашлось что сказать. Ну, и, конечно, Костантино не был бы Костантино, если бы не закончил свой рассказ вот этим:
– Видите, у задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй? – спросил он.
Я кивнула.
– Крайняя слева – моя любимая – очень похожа на вас, Саша.
«Вот ведь, кобель!» – подумала я, но помолчала.
Дальше у нас по плану была галерея Уффици. Мы с Костантино «чтобы не подумали лишнего» разошлись в разные стороны и встретились уже на месте условленного заранее общего сбора, у «Давида». Только всё напрасно. Некоторые пейзанки, видимо, тоже пришли сюда раньше, и я ещё на подходе к плотно стоящей справа от «Давида» нашей группе стала ловить на себе вполне однозначные взгляды.
«Завидно? Завидуйте молча!», – попыталась я соорудить на своей физиономии.
Рассказывать об Уффици, как мне кажется, невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что абсолютно всё увиденное пришлось бы возносить в превосходную степень, а, во-вторых, потому что про неё, Уффици, уже написано такое море разливанное всего, и мой комментарий в этом море просто утонет, не оставив даже всплеска. Скажу одно – два часа, проведённые внутри, стали для меня одним из самых ярких впечатлений за последние десять лет (чего, кстати, нельзя сказать о моих пейзанках, которые в большинстве своём зевали и периодически во всеуслышание сообщали, что Радищевский музей в Саратове во сто крат лучше).
Ближе к выходу, когда я, обалдевшая от «Рождения Венеры», «Весны», «Поклонения волхвов», уже случайным образом бродила по залам, взгляд мой вдруг зацепился за что-то знакомое. Я немедленно изменила курс, задела какую-то тётку («Scusi!», «Сама корова!») и оказалась у стеклянной витрины, за которой был круглый выпуклый предмет с изображённой на нём головой кричащей медузы Горгоны.
– Так вот ты какой, – сказала я вслух, – а я думала, ты больше…
Подошла ближе. И опять меня накрыло это странное чувство обретения настоящего шедевра, виденного раньше миллион раз на цветных вкладках в «Юном художнике». Но было что-то ещё, что не давало мне, в который уже за сегодня раз, тяжело вздохнуть и уйти от шедевра прочь. Я присела, чтобы поймать взгляд медузы, и тут до меня с такой ясностью дошло, на кого я сейчас смотрю, что я непроизвольно взвизгнула.
– Нельзя же так, девушка, – сказала мне полная женщина из нашей группы, которая оказалась слева от меня, – я всё понимаю, шедевр, но всё-таки надо как-то поспокойнее…
– Да она чокнутая, не видно разве? – сообщила ещё одна колхозница, – больная на всю голову.
Я ничего им не ответила, хотя, надо было бы. Следуя указателям, я уже бежала к выходу. Домой. В гостиницу.
5. Она начинает говорить
Слишком высокий для мужского и слишком низкий для женского голос звучал из глубины комнаты. Без единой мысли в голове я закрыла за собой дверь и сняла мокрые насквозь боты. Страшно мне не было, напротив, я ощущала приятное покалывание где-то в районе солнечного сплетения, но вот по голове, будто пыльным мешком стукнули.
– Как вы думаете, какие краски подходят к нашему времени? – спросил голос.
Я сделала неуверенный шаг внутрь комнаты. Затем ещё два. С журнального столика, на котором я утром оставила моё римское приобретение, на меня огромными чёрными глазами смотрела живая человеческая голова, торчащая из цветочного горшка. От неожиданности я села прямо на пол (наши глаза при этом оказались на одной высоте).
– Масло мы, безусловно, отдадим веку девятнадцатому и ранее, – сказала голова, – начало двадцатого – это, конечно же, акварель, его середина – гуашь, а вот окончание и начало века нынешнего для меня вопрос. Большой вопрос.
Я продолжала сидеть на полу. Голова посмотрела на меня, только теперь, как мне показалось, несколько виновато.
– Я испугал вас, простите. Вы принесли вина? Если нет, то я снова усну.
Я встала, дрожащими руками достала бутылку из сумки, которая так и висела у меня на плече, и поставила бутылку на пол рядом с собой.
– Простите, но этого недостаточно, – сказала голова, – вы бы не могли налить вино в тарелку. Мне самому этого никогда не сделать.
«Вот дура!» – подумала я про себя, пальцем пропихнула пробку в бутылку и щедро плеснула вина в тарелку. Уделала весь стол, а заодно и голову. Красные капли потекли по лбу и по левой щеке.
– Ой, простите, – я кинулась, было, её вытирать, но не смогла даже прикоснуться к ней.
– Я понимаю, вам сейчас очень страшно, – невозмутимо отозвалась голова, – но поверьте, вам совершенно нечего бояться. Я никак, абсолютно никаким образом не смогу причинить вам вред.
«А ведь, она права», – подумала я, и от этой мысли мне стало так легко, что я снова плюхнулась на пол.
Голова издала глуховатый смешок. Я тоже засмеялась.
– Чему вы смеётесь? – спросила голова.
– Вспомнила анекдот про то, как одна голова десять лет училась грести ушами, а на соревнованиях по плаванию кто-то на надел неё резиновую шапочку.
Голова на секунду задумалась, а потом захохотала в голос. Это было очень странно, наблюдать хохочущую голову в цветочном горшке.
– Очень смешно, – сказала она, отсмеявшись, – очень. А теперь, если вам не трудно, вытрите меня, пожалуйста.
Я достала из новой сумки платок и подошла к голове. Та хитро посмотрела на меня, а затем вдруг скосила глаза и неестественно далеко высунула изо рта багровый язык (м-м-м-м-м). Я с визгом отпрыгнула в сторону. Голова снова расхохоталась.
– Испугались? Простите, это единственное, чем я могу доставить вам неудобство. Обещаю, больше так делать не буду. Честно.
«Так я тебе и поверила», – подумала я, но всё-таки подошла и решительно вытерла белым махровым полотенцем лицо и стол. Через полотенце я почувствовала, что голова тёплая, даже горячая.
Превратившееся из белого в розовое полотенце полетело на пол ванной. Я посмотрела на своё отражение в зеркале и поняла, что на голове у меня черти чего и что я так и не сняла мокрый плащ. Раздевшись и наскоро причесавшись, я вернулась в комнату; села на пол рядом с журнальным столиком, взяла в руку винную бутылку, в которой оставалось чуть больше половины, и сделала большой глоток.
– Спасибо, о, русоволосая прелестница, – нараспев сказала мне голова, – чем я могу отплатить за вашу безмерную доброту ко мне? За вашу…
– Только не надо так громко петь, – прервала я, – за стенкой у меня пейзанка из группы, подумает, что я мужика привела.
Голова замолчала и задумалась. Её тонкие, почти женские брови уползли далеко вверх, кожа над ними собралась в тугие складки, а рот смешно изогнулся вниз коромыслом.
– Но ведь я не мужик, – сообщила она после долгого раздумья, за время которого я успела ещё дважды приложиться к бутылке.
Меня снова разобрал смех – уж больно наивно это было сказано – но я сдержалась.
– А кто же вы тогда?
– Ещё не знаю. Чаще всего тот, кто обретает меня, видит во мне существо противоположного пола, и это легко объяснимо, поскольку всё ваше земное существование посвящено поиску своей второй половины…
Я сидела на полу со скрещёнными по-турецки ногами в обнимку с медленно кончавшейся бутылкой и внимательно слушала мою странную собеседницу. С каждой новой сказанной ей фразой, с каждой новой гримасой на её лице, я подмечала всё больше исключительно женских черт, которые совершенно спокойно соседствовали в ней с мужскими. «Как же это может быть», – подумала я, но тут мне по очереди вспомнились: «Юноша с корзинкой», «Лютнист» и голова медузы Горгоны, на которой я так позорно подорвалась в Уффици…
– …боюсь, мою половую принадлежность сейчас однозначно определить невозможно…, – закончила голова. – О чём вы так глубоко задумались?
– Мне…, я вспомнила… голову медузы Горгоны, Караваджо, – пробормотала я.
– О, мятежный Микеле! – Голова мечтательно закатила глаза. – Он был горяч! Не знаю, зачем ему понадобилось изображать меня в таком виде, хотя, он всегда говорил, что взглядом можно обратить плоть в камень, а камень в живую плоть, как краски делают живым холст… Он был романтиком, мой Микеле. Мы были вместе четыре года, а в Риме, за год до наступления нового века, расстались.
– Какого, простите, века? – не без сарказма поинтересовалась я.
– Семнадцатого, – произнесла голова тихо, – за год до смерти создателя. Моего создателя.
– Кого, кого?
– Филиппо Бруно по прозвищу «Ноланец», в монашестве получившего имя Джордано, – ответила голова ещё тише.
– Джордано Бруно?! – от неожиданности закричала я. – Того самого?
Но голова ничего не ответила. Тень прошла по её лицу, и мне на миг показалось, что вместо юноши на меня смотрит глубокий старик, такой древний, что мне стало страшно. Я немного подалась вперёд, чтобы лучше рассмотреть лицо, но оно вновь приобрело прежние очертания. «Фу ты чёрт, померещилось», – подумала я.
– Что вы сказали? – спросила голова. – Я не расслышала.
– Я спросила, тот ли это Джордано Бруно, которого сожгли?
Голова моргнула в знак согласия.
– На Кампо деи Фиори, сейчас стоит памятник, только он там на себя не похож. Люди всегда так – сначала жгут, вешают, головы рубят, а потом памятники ставят.
– Это точно, – согласилась я, чувствуя обиду за всё человечество, – кстати, об отрубленных головах, расскажите, почему вы всё ещё живы, и причём тут Джордано Бруно?
Голова недоверчиво прищурилась.
– А вам зачем?
– Не знаю, так просто…
– Просто – одним местом с моста, – голова скорчила недовольную гримасу, – все так говорят, а потом…
– Кто, все?
– Кто, кто! Охотники за мной, вот кто. – Голова внезапно стала серьёзной. – Специально приезжают в Италию, толпами. Может, вы одна из них, почём мне знать.
– И чего им всем от вас нужно? – спросила я как можно наивнее, из-за чего фраза вышла фальшивой, и голова, похоже, это почувствовала.
– А то не знаете! – горько усмехнулась она. – Все всегда всё знают, только делают целомудренные глаза.
– Я, правда, ничегошеньки про это не знаю! Честно-честно!
– Не кричите так. За стеной пейзанка, забыли?
Я закрыла рот ладонью и стала хлопать глазами, стараясь всё сказанное мной свести в шутку, но голова на это никак не отреагировала.
– И потом, мы ещё мало друг друга знаем для таких рассказов, – по бабьи растягивая слова, протянула она, – я ведь даже не знаю, как вас зовут…
– Александра, – ответила я и хотела протянуть руку, но вовремя одумалась, – можно Саша. А вас?
– А меня никак не зовут. – Голова улыбнулась. – По крайней мере, сейчас. Каждый, кто жил со мной почему-то считал своим долгом меня как-то называть. Фабио, Морён, Свия, Коррэо, Бази… всех и не упомнишь. У меня было столько имён, что придумывать новое не имеет никакого смысла. Хотя, если вам захочется придумать мне имя, то силь ву пле, я не против.
– Иван Иваныч, – выпалила я.
– Иван Иваныч…, – повторила за мной голова. – Так меня, кажется, ещё никто не звал.
– Теперь мы достаточно хорошо друг друга знаем?
На лице головы вдруг проступила маска ужасной усталости.
– Давайте, мы с вами завтра об этом поговорим…, – прошептали яркие, едва разлепляющиеся губы, – я немного устал…
– Мне кажется, вы симулянт, – в сердцах сказала я.
Голова встрепенулась.
– Мне больше нравится слово «актёр», но если вам так будет угодно, то сойдёт и симулянт. По большому счёту, это одно и тоже.
Голова смотрела на меня хитрющими глазами, в которых было написано бессмертное калягинское: «Должна же я его хоть чуточку помучить». Стало понятно, что сегодня добиться от неё чего-то внятного будет совершенно невозможно, но я была уже достаточно под шафэ, чтобы на всё это наплевать.
– Раз вы не хотите разговаривать, я пойду спать, – сказала я голове. – Я сплю со светом, так что, если вам это помешает, могу накрыть вас полотенцем, как попугая. Хотите?
– Нет, ничего такого не надо, – ответила голова. – Если хотите, чтобы я уснула, почешите меня чуть выше того места, откуда, так сказать, растёт коса.
Слегка покачиваясь, я встала и сделала, то, что меня попросили. Запустила пятерню в чёрную шевелюру и поскребла ногтями тёплый и твёрдый затылок.
– Вот так, хорошо…, – блаженно пролепетала голова, – вы прелесть, Саша…
Её глаза закрылись.
«Вероятно, у неё там та самая «кнопка», которую безуспешно искал Караченцов у Электроника», – подумала я и пошла спать.
6. Удар, удар, ещё удар…
Я проснулась с невероятно свежей для моего вчерашнего выпивона головой. В комнате было душновато. Сквозь плотные шторы пробивалось яркое солнце.
Голова ещё спала. Глаза её были закрыты, лицо выражало полнейшее спокойствие. При естественном освещении цвет её лица оказался розовым, как у маленькой девочки. Или мальчика. Я подошла к ней поближе, убедилась, что в тарелке совершенно пусто, вылила туда остатки вина с благородным осадком, бутылку отправила в мусорное ведро. Решила, пока голова ещё спит, рассмотреть её повнимательнее.
Оказалось, что мои пьяные глаза вчера меня не повели – черты лица были абсолютно женские, но само лицо, вернее, его очертания – мужскими. Такое сочетание мне нравилось. Я поймала себя на мысли, что мне хочется провести пальцем по бровям, уж больно они были тонкие, прямо ажурные…
Встав на четвереньки, я обползла вокруг журнального столика, разглядывая голову со всех возможных ракурсов, и пришла к выводу, что она стала несколько больше возвышаться над горшком. «Наверное, показалось, – подумала я, – или это у неё за ночь так развилась корневая система…»
Я не стала будить голову, разделась и пошла в ванную. Мылась долго, минут, наверное, двадцать, а то и полчаса – не хотелось выходить из-под тёплого душа. Потом быстро высушила волосы, оделась и, осмотрев комнату, пошла в ресторан.
На завтрак я опоздала, и одетый в белый китель метрдотель скорчил недовольную физиономию. Я извинилась и прошла в зал. По дороге схватила глубокую тарелку и от души сыпанула туда кукурузных хлопьев. Залила молоком. Взяла приборы и села за крайний столик у окна. Через минуту ко мне подошёл высокий седой официант.
– Caffe, prego[14], – сказала я.
Официант поклонился и отошёл.
Пока в молоке размокали хлопья, я смотрела в окно, на прохожих, вероятно, таких же туристов, как и я. Подумала: «почему такая ерунда случилась именно со мной? Почему не вот с той тёткой в идиотской панаме, или не с вон тем толстым парнем, скорее всего, американцем? Почему опять я?»
Седой официант вернулся и поставил на мой столик металлический кофейник и пухлую булочку на блюдце.
– Gracia, – улыбнулась я.
Хлопья в моей тарелке размокли, и я принялась за еду. По большому счёту, есть мне не хотелось, но хоть что-нибудь затолкать было нужно, чтобы не заиметь к обеду дикую боль в желудке. С трудом осилив хлопья, перешла к кофе с булочкой.
Говорят, есть люди, которые чувствуют, когда на них смотрят. Я себя к таким никогда не относила, но в тот момент, когда полбулки было уже позади, я остро ощутила на себе что-то неприятное, что заставило меня повернуться. Оказалось, что через столик от меня сидит Костантино и цедит апельсиновый сок через соломинку. Увидев, что я его заметила, Костантино отдал честь двумя пальцами.
– Buon giorno, прекрасная Александра! – бодро сказал он.
– Доброе утро, Костя, – ответила я.
Костантино понял это за приглашение, встал из-за стола и подошёл ко мне.
– Вы позволите?
Я кивнула.
Он сел напротив и поставил мне под нос свой недопитый бокал. От вида ядовито-жёлтой жидкости мой рот наполнился слюной. Чтобы не захлебнуться, я отвернулась к окну.
– Как вам спалось, Саша? – Костантино соорудил на своём лице неотразимую улыбку.
Говорить на эту тему мне не хотелось, поэтому я сделала неопределённый жест рукой, мол, так себе.
– Лучшее снотворное – руки любимого мужчины, – промурлыкал Костантино и накрыл мою руку своей. – До экскурсии ещё есть время, Саша.
Вот этого я совсем не ожидала. Вероятно, от этого глаза мои округлились, а рот приоткрылся. Я отдёрнула ладонь и убрала обе руки под стол.
– Чему вы удивляетесь? – изобразил фальшивое непонимание Костантино. – Вы очень привлекательная молодая женщина… любой на моём месте поступил бы также…
Эти его слова вывели меня из равновесия. Я испытала такой прилив ненависти к этому кобелю, что чуть не выплеснула ему в морду остатки кофе, а заодно и его поганый сок.
– Положим, я совсем непривлекательная и уже немолодая женщина, – сказала я, еле сдерживаясь, – это, во-первых. Во-вторых, я не шлюха и, в-третьих – не дура. Поэтому отвечайте сейчас же, что вам от меня нужно, или проваливайте.
Костантино развёл руками.
– Ну, что же вы так, Саша! Я же к вам с дорогой душой… давайте поговорим!
«Вот козёл!» – подумала я, встала и быстро пошла на выход.
Костантино увязался следом. Я слышала, как он отодвинул свой стул, встал, слышала его гулкие шаги по плиточному полу ресторана. Мне вдруг стало не по себе, больше скажу, мне стало страшно. Костантино догнал меня у лифта. Взял рукой под локоть и прошептал мне на ухо:





