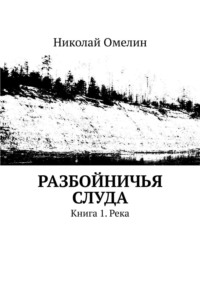Полная версия
Разбойничья Слуда. Книга 2. Озеро

Разбойничья Слуда
Книга 2. Озеро
Николай Омелин
© Николай Омелин, 2024
ISBN 978-5-4496-2557-1 (т. 2)
ISBN 978-5-4496-2361-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В качестве иллюстраций в романе использованы фотографии и рисунки автора.
От автора: любое сходство с реальными людьми, названиями и событиями является случайным.
Пролог
1927 год
Митька Гавзов от злости чуть не заревел. Если бы не дружок Толька, он наверняка бы дал волю накопившейся за это лето обиде. Но в присутствии своего закадычного приятеля сделать это никак не мог. Толька Уткин был не из тех, кто мог хранить тайну, и обязательно рассказал бы деревенским мальчишкам. А Митьке этого уж никак не хотелось. Ребятня живо бы подняла его на смех за такую девичью слабость. Им только дай повод. Да что повод. Для них достаточно было лишь намека на него, чтобы кого-нибудь да подразнить.
Он только представил как тот же Сережка Егоркин, скривив рот, непрерывно повторяет: «Рева-корова, рева-корова…», и слезы, готовые уже выкатиться, так и остались где-то глубоко в глазах.
Митька потер заблестевшие от досады глаза. Сглотнув неприятный в горле комок, он в сердцах ударил удилищем по воде.
– Ну, черт…, – не глядя на приятеля, только и смог он сказать.
«Ну, что за напасть такая! Который раз как ужу, тут лесу рву! Будто кто-то специально сидит в реке и ждет, когда я тут удить буду, чтобы уду оторвать, – возмущался он про себя, глядя на обрывок лески без крючка». В прошлые разы он хотя бы самодельные крючки тут терял. Но в этот раз совсем другое дело. Два дня назад крючок ему с городу родственник привез. Красивый такой, гладкий. И острый, острый – такой самому ну никак не сделать.
Митька любил рыбачить в этих местах, а особенно в этом плесе. Чуть выше по реке грохотал Савеловский порог. Здесь же течение несколько ослабевало, и речные буруны растворялись в глубокой яме. Он был намного ниже своих сверстников. Его большая голова с черной кудрявой шевелюрой нарушала все пропорции худенького с узкими плечикам тела мальчишки. Но это никак не сказывалось на его рыбацких способностях. В ней он был не на одну, а даже на две головы выше своих приятелей. Да и не только их. Его уловам порой завидовали ребята, что были намного старше его. Не по годам умелого рыбака уважали и взрослые. В обычной же жизни он был совсем еще мальчишкой с присущим его возрасту детским максимализмом и верой в чудо.
– Дед, ну что такое, а? – жаловался Митька.
– Я там уж сколько крючков оборвал. Чего я теперь мамке скажу, если спросит? А она обязательно спросит! Жалко крючка. Заводской. В деревне только у Попиков такие видел. Я даже ребятам его не успел показать. Толька токо и видел. Хоть ему показал. 1
– Так, то, наверное, черт золотой их у тебя отрыват, – улыбнулся старик, скрывая усмешку в окладистой бороде. – Нравятся ему такие крючки, вот и рвет нитку. Или таким вот способом предостерегает, чтобы тут не удили.
Митька не первый раз слышал от деда о каком-то «золотом черте». Но до сегодняшнего дня особого значения этому не придавал, каждый раз считая, что больше с ним такого не приключиться. А сегодня такая досада его взяла на того черта, что он всерьез задумался этого черта изловить и наказать, чтоб знал как крючки его красть. Но что за черт и откуда он взялся там, он не знал, а потому сделав серьезное лицо, подошел к голбцу, где лежал Тимофей Петрович, с намерениями узнать всё об этом воришке. 2
– Ты, чего? – подняв голову, спросил старик.
– Дед, расскажи мне о «золотом черте», – серьезно проговорил Митька.
– О черте? – дед оторвал голову от подушки. – А что, сильно он тебя одолел? Ты никак удумал чего?
– Дед, а дед, ну, расскажи. А я тебе… я тебе сено свежее в подушку набью! – произнес внук первое, что пришло в голову.
Утром, собираясь на рыбалку, слышал он, как старик ворчал на Митькину мать, снова ее ругал и что-то выговаривал. И в подоле-то она Митьку принесла. И хозяйство в доме совсем запустила. И что даже в подушке прошлогодняя солома набита, и сменить ее некому. Насчет «подола» Митька давно уже всё понял и через это к деду не подступиться. А вот солома помочь ему может. Не будет он мать с бабкой просить, а сам старику в подушке солому или сено поменяет. После этого старик ну никак не откажется, и расскажет ему о том черте всё, что знает.
– Там в пятнадцатом году река русло новое промыла. Говорят, что много золота на берегу разбойниками было спрятано, да всё и смыло. Вот его черт с тех пор и охраняет. Крючки твои отрыват. Ты бы на Вандышевское озеро лучше сбегал, говорят, там такие окуня ловятся…. Таких в других местах нет нигде. Ухи тоненькой хотце. С харисов то уж как-то приелась, – ответил дед, протягивая подушку внуку. 3
– Окуней я и рядом с деревней наудить могу, чем три версты на Вандышевское топать. Такое же озеро. Тем более, что в нем и воды-то совсем мало, вся утекла! – возмутился Митька.
– Э, паря, – вздохнул Тимофей Петрович. – Канаву с озера уж давно прикопали. И никуда там вода не делась. Ты в деревне живешь или где? Не знаешь ничего. А у нас окуньки мелкие и черные, как головешки. А на Вандышевском крупные, с золотистым отливом. Приятно из такой рыбки и ухи похлебать.
– А ребята сказывали, что черт в Вандышевском живет, а не у Савеловского порога. Его там два года назад мужики даже ловили. Потому и канаву копали. Вот поймали или нет, не знаю. А ты не знаешь?
– А кто же знает? Может быть, и живет до сих пор. У нас они, видать, где только не поселились. Видать, есть что охранять и у Савеловского порога и в озере. Сюда, в наши края с давних пор бегут разбойники всякие с награбленным, словно им тут медом намазано. Через нас и до Пинеги рядом – легко спрятаться от погони. А черти они за разбойниками следом идут.
На мосту заскрипели половицы. И тут же следом раздался глухой хриплый кашель бабки Анны. 4
– Куды мотыгу задевали? Тут еще вечером стояла! – крикнула через дверь Анна Гавриловна. – Митька! Куды вилы дел? Говорила – не вороши, так всё назло только мне творишь! 5 6
Как обычно все потери в доме относились на счет внука. Митька оживился, не обращая внимания на бабкины слова. Надеясь услышать продолжение истории, он шагнул к деду, но Тимофей Петрович потянулся, громко зевнул, повернулся к нему спиной и захрапел.
«Ну вот, как всегда. Только у него что-то сурьезное спросишь, как он сразу на бок, – подумал Митька, и пошел к бабке, чтобы сказать, что та утром на назём ходила и вилами в хлеву ворота подперла». 7
Часть первая
1915 год
Небольшой костерок, устроенный за выскорью, казалось, вот-вот потухнет. Густой сизый дым, идущий от него, то полностью накрывал еле тлеющие поленья, то отступал под порывом ветра. 8
– Вот, зараза, – стоя на коленях у костра и подкладывая бересты, ворчал здоровенный мужик в зимней, одетой не по сезону, шапке. – Задавливат, что хошь делай! 9
Не дождавшись, когда пламя пробьется и зацепится языками за поленья, он поднялся. Взяв широкую пластину бересты, здоровяк стал аккуратно размахивать им над тлеющим костром.
– Я гляжу, дядька Степан, нам кипяточку сёдни не пить. Или…, – не успел договорить второй, заметно моложе мужичок с огромной черной шевелюрой, как Степан его перебил.
– А ты, шельмец, чем язык чесать, да портки протирать, лучше лап еловых наломай. Неизвестно еще, сколько мы тут просидим, – перебил его Степан.
Выругавшись, он оглянулся на стоящую за спиной Серафиму и, заметив ее одобряющий взгляд, добавил:
– Да только топором не тюкай. Там мужики не промах, – он кивнул куда-то в сторону реки. – Враз поймут, что к чему, хоть и далеко. Вот тогда, Прохор, и ноги твои долгие не помогут, – разгоняя дым берестом, заключил Степан.
– Старшой их не спит. С берегу видно, что Семен бродит чего-то, не ложится. Но, дай Бог, может и угомониться, – тихо заметила Серафима. – А отдохнуть, да ноги выпрямить и впрямь сейчас нам не помешает.
Услышав Плетневу, Степан Рочев обернулся к ней. Затем выпрямился, вытер руки о штаны, и, глядя на Серафиму, проговорил:
– Что-то неладно у меня на душе сегодня. Вроде все как обычно кругом, – он встревожено осмотрелся вокруг. – А вот не спокойно оно как-то. Беда какая не случилась бы. Вон, огонь и тот никак не разгорится.
– Типун тебе на язык, – буркнул, вставая с валежины, Прохор. – Ты вон в том годе тоже накаркал.
Он ненадолго задумался и продолжил:
– Тоже все лето твердил про беду, вот и войну накликал.
Рочев, не обращая внимания на слова своего племянника, взял хворостину, уже в который раз разворошил тлеющий костер и заново сложил дымящиеся поленья. Не спеша зажег большой кусок бересты, и, подождав пока та по-хорошему разгорится, сунул ее снизу дров. Головешки словно в знак благодарности бодро затрещали, и ярко-красные языки пламени заплясали по поленьям.
– Ну, вот, топере не погаснет, – с удовлетворением отметил он. – Ты, Прохор, уж больше четверти века прожил, фамилию нашу носишь, а костра толком развести не можешь. Ольхи сухой кругом стоит – жги не хочу. Так нет, наложил чего попало, – Степан укоризненно посмотрел на Прохора. 10
Глядя, как тот выкручивает огромную еловую ветку, он сплюнул с досады и аккуратно повесил котелок с водой над костром. «Дал бог племяша, – уже в который раз за последние дни подумал он. – В городе-то кабыть проворнее, да посмекалистее, а вот в лесной жизни ничего не соображат».
Не желая более нагонять тоску размышлениями о Прохоре, Степан повернулся к Серафиме и произнес:
– Серафима, а, Сима? – Степан похлопал себя по плечам, прогоняя легкий, невесть откуда взявшийся озноб. – Мужички то, наверное, уже угомонились. Не слыхать шуму. Может сходить, посмотреть? Туда и обратно – две версты, быстро обернусь.
Плетнева будто и не слышала его слов. Она лишь потуже повязала платок, да подоткнула под себя полы пальто. Хоть и теплая да ранняя нынче весна, а ночью все одно еще прохладно. Да и с реки сыростью тянуло. «Бок что-то совсем разнылся – подумала она».
Она пододвинулась ближе к костру и проговорила:
– Лодка течет. Надо было еще вчера закропать, – Плетнева отмахнулась от прилетевшей искры. – Да, что уж теперь, – последние слова Серафима произнесла еле слышно, скорее, для себя, чем для своих помощников. 11
– Дак, вытащили ее повыше, чтоб обсохла. Утром посмотрим, что к чему, – попытался оправдаться Степан, но поняв, что спорить с сестрой сейчас бессмысленно, замолчал.
Да и не умел и не любил он спорить с бабами, а тем более убеждать их в чем-то. Сама нынешняя ситуация, когда руководит всем не мужик, для него была непривычной. Но выбора не было, а потому взяв мешок, он стал выкладывать взятую с собой еду.
Спустя полчаса, слегка перекусив, они уже лежали на свежих еловых ветках рядом с затухающим костром. Лежанка не ахти какая, но когда другого ничего нет, то вполне способна заменить постель. По крайней мере защитить о холода и сырости, тянущей от земли, еловые лапы на какое-то время могут.
Мужчины устроились по одну сторону костра. Прохор, прикрывшись теми же ветками, прислонился к дядьке спиной, и едва положив голову на плоскую трухлявую чурку, тут же уснул. Степан же лежал на спине, положив руку под голову, и не отрываясь, смотрел на верхушки огромных деревьев, плавно сливавшиеся с едва потемневшим небом. «Рассвет скоро, – подумал он. – Ночи светлые нынче. Нам такие не в помощь. Чудно на свете как устроено – за Москвой говорят, таких светлых ночей уж нет».
Серафима лежала на такой же как и мужики еловой подстилке, повернувшись лицом к реке, и подставив спину к теплому догорающему костру. Некоторое время она ворочалась, пытаясь поправить под собой торчавшую ветку. До реки было метров сто, но сквозь редкие прибрежные кусты она хорошо была видна. Глядя на ее размеренное течение, Плетнева, наконец, успокоилась и закрыла глаза, надеясь немного поспать перед ответственным делом.
1881—1889 годы
В одна тысяча восемьсот восемьдесят первом году морозы на Рождество стояли лютые. Жизнь в Москве, казалось, остановилась. Только струящийся из всех возможных труб сизый дым давал повод усомниться, что это не большая вымершая деревня, а все же главный город России.
Дарья Апраксина, дородная девка лет тридцати от роду, три года назад по наказу матери приехала навестить тяжелобольную тетку, да так и осталась в Москве. Через несколько дней после приезда к ним зашел их земляк и сообщил, что мать ее скоропостижно скончалась. А еще через день не стало и тетки. В родной Вологде никого у нее не осталось, а потому забрав с дому нехитрые пожитки, она переехала в Москву. Большой двухэтажный дом на улице Моховой, в котором жила ее тетка, принадлежал хозяину прядильной фабрики. В нем проживали несколько семей работников этой фабрики, где вскоре и стала работать Дарья. Там же жила и Зинаида Зотова вместе с пьяницей мужем и дочкой Фимой.
Стоя на табуретке, Апраксина ногтем скоблила образовавшуюся на оконном стекле снежную шубу. Сутками топящаяся печка не успевала прогревать общую кухню, и чтобы хоть как-то умерить идущий от окна ледяной холод, она вчера завесила окно старым суконным одеялом. А сегодня с ужасом увидела, как все окно покрылось толстым снежным наростом. Даже когда на улице совсем рассвело, в кухне из-за этого снежного занавеса светлее не стало.
Она принялась тщательно соскребать всю эту рождественскую «благодать» огромным кухонным ножом, собирая падающую снежную крошку в стоящее тут же помойное ведро. Наконец, основная часть рамы была очищена, и Дарья сквозь промерзшее стекло увидела, как двое здоровенных мужиков тащат по двору ее соседа.
– Зинка, это не твоего ли благоверного под руки ведут! – прокричала она на всю квартиру, слезая со скрипучего обшарпанного табурета. – Опять, твой паразит, набрался. Наверное, при станционной пивной два дня пропадал с дружками своими. А ты всё переживаешь за него, – уже подойдя к двери в комнату Зотовых, проговорила Апраксина.
Спустя пару минут в дверь квартиры постучали. Предчувствие чего-то нехорошего не отпускало Зинаиду уже который день.
– Дарья, сходи, открой, – тихо проговорила она, выглядывая из своей комнаты.
Но этого не потребовалось. Дверь в квартиру оказалась не заперта, а потому после очередного удара кулаком, она распахнулась настежь.
– Эй, хозяева, – раздался с прихожей осипший мужской голос. – Принимайте жмурика.
Слова были произнесены как-то буднично и безучастно, будто растаскивать по домам покойников было для него делом обычным.
– Зинка, ну, ты… ты чего стоишь-то, – Дарья слегка дотронулась до соседки.
Она сразу поняла, что случилось, и уже была готова начать причитать.
– Кузьмича-то куда положить? – обратившись к Апраксиной, спросил тот же голос.
– Тут его пока на сундук привалите, – проговорила Дарья.
Мужики как-то неловко перевалили закоченевшее тело на стоявший в углу коридора сундук, и попятились к двери.
– Где… он был? – обращаясь к собиравшимся было уходить мужикам, тихо спросила Зинаида.
Ей показалось, что ее не услышали, и она срываясь на крик снова спросила:
– Нашли-то его где?
Второй, что был помоложе и покрепче, нахлобучивая на голову собачью шапку, спокойно, даже с некоторым безразличием к происходящему, проговорил:
– Да, где как не в сугробе. Рядом тут, у водокачки. Я-то знаю Петруху, вернее, знал Петра Кузьмича, – поправился он. – Частенько он в пивную к нам захаживал.
И стянув только что одетую шапку, немного помолчав, добавил:
– Мороз. Жмет нынче, не дай Бог! Видать домой пьяный шел, да и не дошел… А мы с Михеем пошли седни сена коням подать, а он как будто только и присел в сугробчик. Ну, тот, что Проня у парадного нарыл.
Сказав, он снова замолчал. Потом словно спохватившись, добавил:
– Вот такие дела нынче. Уж скоко народу сейгот померзло. Дедко сказывал, что не бывало такого морозу еще у нас. Видать крепко Бога прогневали, раз такое испытание нам послал.
Он повернулся, слегка подталкивая к выходу напарника.
– Пойдем мы что ли, – словно оправдываясь, проговорил уже Михеич и распахнул дверь.
Серафима плохо помнила, как хоронили отца. От тех событий в ее памяти лишь отчетливо остались причитания матери, да бородатое лицо какого-то мужика на кладбище, то и дело повторявшего: «Не дай Бог в такой мороз помереть – могилу не выкопать…». Мужчина стоял один у соседней могилы, склонив голову и время от времени смахивал замерзающие на ресницах слезы. Мороз в тот день, хотя немного и отступил, но всё одно было холодно. А потому в день похорон на кладбище, кроме их с матерью да соседки Дарьи из близких никого больше не было. Да и Фиму Зинаида поначалу брать не хотела. Но оставлять ее одну дома не решилась. Со смертью мужа появилось какое-то внутреннее беспокойство и боязнь за дочь. Она даже ночью несколько раз просыпалась и проверяла, спит ли рядом Серафима – её Фима, как она ее называла.
А уже на следующий день с самого утра мать отвела ее в соседний дом, где проживала ее давняя знакомая. Вчера, когда разошлись соседи с поминок, Раиса, как звали знакомую, предложила Зинаиде в качестве помощи приглядеть за Серафимой.
– У меня, ты знаешь, у самой дочка растет, – проговорила Раиса, обращаясь к Зотовой. – Вот вдвоем и будут мне помогать. Моя хоть и постарше будет, но ничего. Лизке, как и твоей сейчас, тоже восемь было, когда я ей первый раз в руки веретено дала. Петра твоего уж нет. Кто за Фимой твоей приглядит… А пригляд нужен. Одной не дело ей оставаться. Мала еще. Не хватало, чтоб и с ней чего случилось пока ты на фабрике.
Раиса сложила вымытую посуду в шкаф. Вытерла руки о подол фартука и подошла к сидевшей с отрешенным видом Зинаиде.
– Ну, ты чего, Зин? Мужика не вернуть, чего уж теперь? – она положила ей руку на плечо. – Ну, всё, всё. Помянули, посуду вымыли, и давай дальше жить будем.
– Да, да, – еле слышно проговорила Зотова. – Спасибо тебе, Рая. Спасибо, – добавила она чуть громче.
Раиса Николаевна Гольдштейн до недавнего времени работала вместе с Зинаидой на прядильной фабрике. Два года назад там случилась авария, в результате которой пострадало несколько работников. Но больше всех досталось Раисе – упавшей металлической балкой ей сломало обе ноги.
Хозяин фабрики Петр Петрович Никифоров проявил большое участие в дальнейшей судьбе Раисы. Когда после нескольких месяцев лечения выяснилось, что работать на фабрике из-за полученных увечий Раиса не сможет, он предложил ей трудиться дома. Никифоров взял на себя обязанности по обеспечению Гольдштейн заказами и сырьем, а она к своему удивлению довольно быстро освоила ручное вязание. И не только научилась вязать различные шерстяные вещи, но делала это настолько качественно, что вскоре от желающих их купить не было отбоя. И к Раисе Николаевне потянулись с заказами со всей округи.
К Лизе Гольдштейн Серафима привязалась с первых дней их знакомства. Дочка Раисы была старше ее на два года, однако на отношениях между девочками это почти никак не отражалось. Лиза была девочкой общительной и любознательной. И, когда появилась маленькая с черными кудрявыми волосами Фима, она словно старшая сестра окружила ее заботой и вниманием.
Ей нравилось учить ее нехитрому на первый взгляд прядильному мастерству. Серафима оказалась девочкой смышленой и легко обучаемой. И вскоре с должным усердием проворно справлялась со многими поручаемыми ей операциями. Она уже довольно ловко расчесывала слежавшейся комки шерсти небольшими, словно специально изготовленными для детских ручек, цапками. Легко справлялась с веретеном, аккуратно вытягивая из пряжи нить. Вскоре ученица догнала свою учительницу, а Раиса Николаевна с нескрываемым удивлением наблюдала и радовалась, как щупленькая кареглазая девчушка управляется с шерстью. Нить получалась у нее даже получше, чем у Лизы – без обрывов и одинаковой по толщине. 12
Когда мать позволяла, Лиза уводила Серафиму в другую комнату, где они играли. Но больше всего ей нравилось рассказывать ей сказки. Казалось бы, ничего удивительного в этом не было – кто из детей их не любит? Если бы не то обстоятельство, что все сказки у нее были собственного сочинения. Как и когда рождались они в ее голове она и сама толком объяснить не могла. Лиза никогда не повторялась в сюжетах, и к тому же рассказывала их с выражением, сопровождая соответствующей действию мимикой и жестами. Раиса Николаевна давно стала замечать за дочкой способности к сочинительству, но иначе как «выдумщицей» ее не называла. «Пройдет с возрастом, – думала она о занятиях дочки. – Повзрослеет, не до сказок будет».
Серафима была примерным зрителем всего, что видела и слышала в исполнении Лизы. Обладая цепкой памятью, она помнила буквально все рассказанные подружкой сказки. Дома, когда мать возвращалась с работы, девочка, пересказывала ей все услышанное от Лизы. А Зинаида Ивановна, слушая ее, на мгновение забывала об усталости, радуясь успехам и способностям дочки.
Так прошел год. А осенью следующего по настоянию и при непосредственном участии всё того же Никифорова девочки пошли учиться во вновь открывшуюся при фабрике частную школу. В отличие от Лизы Серафима прядильное дело не забросила. Наоборот, научилась у соседки Дарьи вязанию, и все свободной время проводила за этим занятием.
Несмотря на разницу в возрасте подруг определили в один класс, в котором они и проучились последующие шесть лет. Лиза, приветливая и активная во всем, за что бы ни взялась, сразу стала любимицей школы. Ее творческие способности были быстро оценены одноклассниками, и уже через месяц за ней закрепилось прозвище «Актриса». Лиза с большой точностью копировала поведение не только подружек, но и учителей. Она легко могла разыграть сценку с недомоганием и отпроситься у учителя домой. Особенно удачно у нее получалось придумывать истории, в которых она якобы участвовала, и с невероятной достоверностью их рассказывать. После одной из них мало кто в школе сомневался, что сам царь пригласил Лизу на бал.
Серафима в отличие от старшей подруги, была более сдержана и рассудительна в поведении. Новыми подружками обзаводиться не спешила, и в лидеры выбиваться не хотела. Ей вполне хватало общения с теми, с кем водила дружбу подруга. Тем более у Лизы их было предостаточно и всех возрастов.
К моменту окончания школы Серафиме исполнилось пятнадцать лет, и Зинаида Ивановна договорилась с руководством прядильной фабрики, чтобы дочку взяли ученицей в вязальный цех. А вот Лиза ни за что на фабрику работать идти не хотела. Даже однажды поведала своей подруге, что убежит из дому, если мать её на фабрику заставит идти. «Эх, Фима! Я в театр хочу. Вот там жизнь! Хочу красиво одеваться, да на балах блистать, – поделилась она своими мыслями с подругой в один из последних школьных дней».
Серафима вспомнила о словах своей подруги, когда в январе одна тысяча восемьсот восемьдесят девятого года Лиза пропала. Накануне было воскресенье, день выдался солнечный и подруги вместе гуляли вдоль реки, благо морозы в этом году будто стороной обходили Москву. Стоя на Крымском мосту, Лиза вдруг обняла Фиму, и заплакала, еле слышно шепча и прося у кого-то прощения.
«Ну, вот, опять по какому-то принцу сохнет, – подумала тогда Серафима». А на что еще думать, если за последние полгода их у Елизаветы было, что пальцев на руках. У нее была странная привычка извиняться перед подругой за свои увлечения мальчишками. Природная красота семнадцатилетней девчушки не оставляла равнодушным никого из ребят в округе. Лиза после окончания школы снова стала помогать матери и днями просиживала за прялкой, а во дворе в это время почти всегда собирались мальчишки, приходившие сюда только из-за нее.
Поздно вечером следующего дня к ним пришла мать Лизы. От нее Серафима и узнала, что дочки нет уже второй день. Она не ночевала дома вчера, и сегодня ее тоже весь день не было. Женщины говорили немного, высказывая предположения о причине Лизкиного исчезновения.
После ухода Гольдштейн-старшей Серафима прильнула к матери, крепко обнимая ее от нахлынувших чувств.
– Мама, вот Лизка пропала. И я одна. Ты у меня только осталась. Один ты у меня родной человек, – причитала Сима.
Зинаида Ивановна пыталась успокоить дочку, но видя, что обычные слова до нее не доходят, неожиданно проговорила:
– Не одна ты Сима. Брат с сестрой у тебя есть, Степка и Машенька. Близняшки они. Детки мои первые.
Прошлое всегда тяготило Зотову. Она очень страдала от поступка, совершенного в те непростые для нее дни. Дни, когда нужно было сделать нелегкий выбор, она вспоминала часто. Как ни странно это выглядело, но родители отца ее двойняшек, оправдывали поступок Зинаиды. А родня нового мужа недолюбливала и осуждала ее. Когда Серафима стала подрастать, Зинаиду всё чаще стала посещать мысль о том, чтобы рассказать дочери о своем прошлом. Но ей всё казалось, что та слишком мала еще, и время не пришло. И вот сейчас, произнеся то, о чем давно думала, она растерялась. Как отнесется дочка к сказанному? Не изменится ли ее отношение к ней после услышанного? Вопросы один за другим возникали в голове Зотовой.