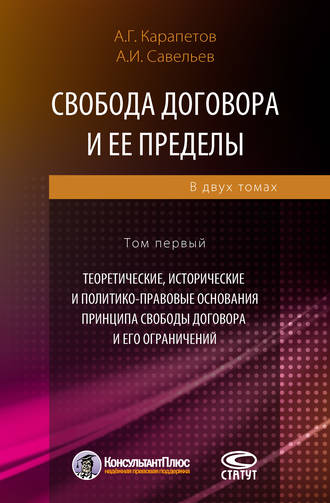
Полная версия
Свобода договора и ее пределы. Том 1. Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограничений
Нас интересуют основания идеи свободы договора и пределы определения содержания традиционного гражданско-правового договора, регулирующего обязательственные отношения сторон на фоне общих и специальных норм обязательственного права. Разработка проблематики проявления идеи свободы договора за рамками этой, признаем, крайне условно очерченной сферы, а также формирование некой общей межотраслевой доктрины свободы договора представляются темами крайне актуальными, но не входят в наши задачи в рамках настоящей работы.
Глава 2. Методологические аспекты политико-правового анализа принципа свободы договора
§ 1. Обоснование необходимости политико-правового анализа
Понимание принципа свободы договора и его практической роли в контексте российского права – вопрос не из легких.
Из текста законов вывести сколько-нибудь реальное представление о функционировании этого базового принципа очень сложно. Торжественное провозглашение принципа свободы договора на уровне ГК (ст. 1 и 421) дает крайне отдаленное представление о том, как функционирует данная идея в реальности. Кроме того, по ряду наиболее острых вопросов применения данного принципа ГК выражается нечетко или попросту молчит.
Обращение исследователя к отечественной доктринальной литературе также оказывается не вполне продуктивным.
Проблема использования отечественной цивилистической литературы для анализа столь острой проблемы состоит в том, что имеющийся в России цивилистический научный дискурс, так уж сложилось, носит преимущественно догматический характер. Он, за редкими исключениями, нацелен либо на экзегетическое комментирование буквы закона (как правило, в виде его пересказа иными словами, а в лучшем случае – в виде попытки согласования его разрозненных норм), либо на логическую обработку, индуктивное обобщение и дедуктивное применение действующего позитивного регулирования, исторических источников и опыта их анализа предыдущими поколениями работающих в том же методологическом ключе ученых[46].
Применительно к принципу свободы договора (как, впрочем, и в отношении целого ряда других насущных правовых проблем) анализ истории и догматики права с научной точки зрения оказывается недостаточным, как только вопрос заходит о пределах применения данного принципа de lege ferenda и путях разрешения многих практических вопросов. История позитивного права и герменевтика исторических источников, экзегетический анализ текстов действующих законов и формально-догматическая обработка позитивного права в духе «юриспруденции понятий», как правило, недостаточны для того, чтобы сформировать методологическую основу для принятия законодателем и высшими судами наиболее адекватных правотворческих решений. Из того, что торговля людьми считалась приемлемой частноправовой сделкой в ряде штатов США во времена Франклина или в России во времена Гоголя, отнюдь не следует, что такое проявление договорной свободы сейчас можно допустить. Вывод же о допустимости или недопустимости легализации обеспечительной передачи права собственности находится в крайне слабой причинно-следственной взаимосвязи с тем, признавалась ли данная конструкция в римском праве или нет. Исторический опыт крайне важен, но недостаточен при принятии государством конкретных регулятивных решений об ограничении или допущении тех или иных проявлений договорной свободы (от допущения безотзывных банковских вкладов до легализации соглашений о субординации требований кредиторов одного должника).
В свое время профессор Р. Борк применительно к антимонопольному праву отметил, что «антимонопольная политика не может стать рациональной, пока мы не способны дать твердый ответ на вопрос о том, в чем состоит цель антимонопольного права. Ответы на все частные вопросы вытекают из ответа на этот базовый вопрос… Только после этого возможно сформировать согласованную систему правового регулирования»[47]. Этот же вывод не менее очевиден и в отношении договорного права. В реальности, без анализа истинных целей договорного права (справедливости, экономической эффективности и т. п.), без постановки фундаментальных вопросов о свободе, индивидуализме, патернализме и социальной солидарности, о допустимой роли государства в экономике, такие фундаментальные вопросы, как свобода договора, исследовать бессмысленно и решать преждевременно. В условиях, когда анализ содержательной рациональности права (политики права) не принят и зачастую отвергается в российском научном сообществе, трудно ожидать сколько-нибудь глубокого изучения, понимания и последовательного проведения в жизнь или осознанного ограничения принципа свободы договора.
Такая прискорбная картина наблюдалась и в зарубежном праве вплоть до последних десятилетий. Все выдающиеся немецкие пандектисты XIX в., которым мы так многим обязаны в плане систематизации частного права, принципиально не исследовали вопросы политики права и поэтому практически полностью игнорировали вопрос о свободе договора и ее пределах. Сам принцип свободы договора проявился в форме «волевой теории» сделки, но проблематика ограничения содержательной свободы договора глубоко не изучалась, поскольку основное внимание было направлено на анализ проблематики процесса заключения договора. Научная методология пандектистов, основанная на комментировании римско-правовых текстов и индуктивном обобщении полученных оттуда догм в согласованные концепции и понятия, просто не могла ответить на многие вопросы, связанные с необходимостью ограничения договорной свободы, не начиная изменять сама себе. Дискуссии на эту тему в среде юристов и более или менее серьезный научный анализ в немецком праве начались только в XX в., когда эпоха великих пандектистов ушла в историю[48].
Так, например, к концу XIX в. французские, немецкие и другие европейские цивилисты признали наличие дихотомии императивных и диспозитивных норм, но серьезный анализ тех критериев, по которым законодателю стоит формулировать ту или иную норму как императивную или диспозитивную, а суду – давать норме, не имеющей очевидных текстуальных атрибутов, императивную или диспозитивную интерпретацию, начался в правовой науке зарубежных стран только во второй половине XX в.[49]
В то же время правовая наука не стоит на месте. К настоящему моменту, как показывает изучение доступной авторам зарубежной научной литературы, осмысление роли принципа свободы договора и оснований его ограничения все чаще строится в развитых странах на основе серьезного анализа политико-правовых (утилитарных, этических или иных) соображений, т. е. с учетом ценностей и целей, которым право должно следовать как инструмент социального контроля и инженерии, механизм проведения в жизнь доминирующих в обществе моральных установок и катализатор экономического прогресса.
Никому сейчас в мире не приходит в голову ограничить свободу договора по каким-то чисто формально-догматическим причинам лучшего вписывания некой сделки в какую-то сложившуюся в догматике права концепцию или понятие. Для обоснования принципа свободы договора и оправдания его ограничения современными зарубежными юристами используются в первую очередь аргументы содержательной рациональности права, включая мораль, экономическую эффективность и конституционные права и ценности.
Мир частного права как абсолютно автономной и трансцендентальной системы, выстроенной и развивающейся только на основе формальной логики и толкования «священных» юридических текстов, давно в прошлом. В науке зарубежных стран активно развиваются юриспруденция интересов и ценностей (Германия), правовой прагматизм, школа критических правовых исследований и экономический анализ прав (США) и другие научные методологии, акцентирующие внимание на различных аспектах содержательной рациональности права.
В России ситуация принципиально иная. Политико-правовая научная методология в области частного права в России начала активно развиваться в начале XX в. во многом благодаря научным усилиям Л.И. Петражицкого, который поставил в качестве основной цели своей научной деятельности формирование в сфере частного права политико-правовой научной метолологии, нацеленной на научный анализ путей совершенствования позитивного права. Такая методология должна была, на его взгляд, занять место теряющего авторитет естественно-правового дискурса, ранее де-факто отчасти выполнявшего аналогичную роль[50]. Но после Первой мировой войны и революции политика гражданского права в той ее форме, которая была близка Л. Петражицкому и многим другим дореволюционным цивилистам[51], просто оказалась никому не нужна. Цивилисты были вынуждены либо удалиться в сферу чистой догматики и теоретических абстракций, изучая структуру гражданского правоотношения или систему юридических фактов, либо наполнять свой научный анализ марксистско-ленинскими политико-правовыми установками, которые в значительной степени лишали их работы истинно цивилистического значения, либо искать некие компромиссы между этими крайностями.
В современных условиях необходимость детально анализировать инструкции различных советских плановых ведомств и цитировать Маркса, Ленина и Сталина в рамках научного цивилистического исследования, к счастью, отпала. Советская правовая политика в рамках научных исследований исчезла, оставив ученого один на один с текстом Гражданского кодекса и методологией «юриспруденции понятий», а «новая старая» рыночно ориентированная политика гражданского права так и не заняла должное место. Научное направление, начатое более 100 лет назад Л.И. Петражицким, так и не получило импульс к возрождению, несмотря на формальное возвращение к политико-правовым установкам рыночного гражданского права на уровне деклараций Конституции и Гражданского кодекса РФ. В результате в области гражданско-правовой методологии мы остались с наследством в форме четырех стен правовой догматики.
Для того чтобы сопоставить различия в методологии научного анализа, достаточно сравнить редкие и сугубо догматические российские публикации на тему договорной свободы и, скажем, потрясающую по широте и глубине анализа книгу Патрика Атийи «Становление и падение свободы договора» или сотни глубоких и новаторских статей о договорной свободе, патернализме и пределах частной автономии в договорном праве, написанных за последние 30–40 лет немецкими, английскими и американскими профессорами и разбираемых далее на страницах данной книги. Этого сопоставления достаточно, чтобы осознать методологическую ограниченность, которая, как приходится признать, характерна для большинства российских научных публикаций по этой теме.
По сложившимся в России правилам научного дискурса, если какое-то ограничение свободы договора представляется более логичным с точки зрения лингвистического и систематического толкования тех или иных законодательных норм, вытекает из сложившихся догматических конструкций или позволяет втиснуть заключенный контракт в некую поименованную договорную модель, российские ученые часто готовы легко проигнорировать волю сторон, не испытывая при этом сколько-нибудь сильного дискомфорта и не пытаясь анализировать политико-правовые (утилитарные или этические) соображения, стоящие за этим решением.
В этой связи крайне важно для развития правовой науки несколько расширить методологические горизонты и попытаться взглянуть на проблемы частного права со стороны правовой политики. Необходимо начать научное изыскание оптимальных регулятивных решений, способных вызвать те последствия, которые можно было бы признать желательными и адекватными исходя из конечных целей позитивного права. Независимо от того, занимается ли этим поиском правовая наука или нет, этим серьезно занимаются экономисты, философы-моралисты, политологи и представители других социальных наук. Но самое главное состоит в том, что законодатели и высшие суды в своем правотворчестве во всех странах (в не меньшей степени и в России) исходят прежде всего именно из так или иначе осознаваемых политико-правовых соображений (как минимум тогда, когда они в принципе осуществляют это правотворчество добросовестно). Не имея опоры в правовой науке, они, зачастую искренне желая достичь неких общественно полезных результатов, чаще всего осуществляют регулятивный выбор сугубо интуитивно. К сожалению, этот выбор далеко не всегда оказывается удачным. При этом часто регуляторы некритически воспринимают нормативные предложения представителей экономической науки или тех или иных групп лиц, имеющих специальные интересы, без учета важнейших правовых соображений системной согласованности позитивного права или учета ценностей справедливости и иных этических принципов. Иначе говоря, если юристы не занимаются правовой политикой, это значит, что они осознанно уступают эту сферу другим заинтересованным лицам и что они принципиально отказываются содействовать построению справедливого и эффективного правового регулирования, смиряясь с тем позитивно-правовым материалом, которым их «обрадуют» официальные правотворцы. Нас такой подход, который крайне удивил бы любого римского юриста, категорически не устраивает.
Можно не соглашаться с Марксом, который отвел праву исключительно роль надстройки над экономической структурой общества, несколько принижая значение влияния на право со стороны культуры и религии, а также обратного влияния культуры, религии и права на структуру экономических отношений[52]. Судя по всему, классический марксизм действительно недостаточно внимания уделял ряду сложных взаимосвязей этих различных систем, а также недооценивал определенную ригидность частноправовой догматики как таковой. Очевидно, что очень часто именно правовые реформы предшествуют формированию тех или иных социально-экономических и культурных реалий и стимулируют их возникновение и изменение. Так, например, во многих обществах (особенно в странах «догоняющего развития») предварительное признание права частной собственности и договорной свободы в позитивном праве являлось инструментом формирования рыночной экономики как таковой или легитимации ее стихийного развития, а также разрушения коллективистской и патерналистской социальной структуры. Поэтому соотношение позитивного права и социально-экономического и культурного контекстов вряд ли можно описать исключительно в рамках модели базиса и послушно двигающейся за ним надстройки. Взаимодействие всех этих элементов, видимо, куда более сложное и строится на началах взаимозависимости.
Тем не менее трудно не признать, что право в значительной степени функционирует по описанной А.Дж. Тойнби модели «вызов – ответ»[53]. Это легко увидеть, если задаться вопросом о том, что заставило правительства постсоветских стран вводить в позитивное право признание и защиту частной собственности, а также декларировать договорную свободу. Посредством введения или изменения позитивно-правовых норм государство и общество, как правило, пытаются дать регулятивный ответ на вновь возникшие экономические, нравственные и культурные вызовы, исходящие из социальной системы в целом. Иногда этот ответ задерживается и в позитивном праве сохраняются решения, введенные в свое время в ответ на некие исторические вызовы, давно утратившие свое функциональное оправдание. Но, как правило, рано или поздно эти анахронизмы отступают под давлением новых жизненных реалий. Это предопределяет постоянную и нескончаемую эволюцию позитивного права и относительность любых позитивно-правовых догм. Как верно отмечается в литературе, договорное право есть «средство регулирования общественных отношений, и его природа изменяется по мере социальных изменений»[54].
В этой связи стоит констатировать, что реальное позитивно-правовое наполнение принципа свободы договора и ограничения этого принципа всегда находились и находятся под значительным влиянием экономических, социальных, этических, культурных и даже религиозных идей и реалий, без понимания роли которых юристу сложно осознать истинные приводные ремни развития данного правового явления и предложить адекватные пути реформы.
Так, например, отказ классического римского права оценивать эквивалентность обмениваемых благ, развитие института laesio enormis в позднем римском праве и в Средние века, снижение его популярности в XIX в. и некоторое воскрешение в XX в. – все это отражало изменения в соотношении уходящих корнями в аристотелевскую и христианскую этику представлений о справедливости акта обмена, с одной стороны, и утилитарных соображений о пользе торговли, иммунизированной от государственного вмешательства и патернализма, – с другой. В той же мере возникновение в XX в. детального регулирования ограничения договорной свободы в отношении трудовых, потребительских договоров и договоров, заключенных на стандартных условиях, а также договорных отношений монополистов невозможно понять в отрыве от реальных подвижек в структуре торговли, демократизации общества и развития доктрины государства всеобщего благосостояния. В равной мере без анализа политики права трудно понять, почему французское право столь упорно отказывало судам в праве снижать договорную неустойку в течение всего XIX в., а в XX в. дало судам право снижать неустойку не только по просьбе должника, но и по собственной инициативе.
По нашему убеждению, если юрист не привык смотреть на развитие позитивного права в широком социально-экономическом, этическом и культурном контексте, он и не может претендовать на истинно научный анализ того, какие правовые решения будут наиболее приемлемы в современных условиях. Его сугубо исторические и догматические знания оказываются малополезными для правовой реформы и не способствуют решению актуальных задач регулятивной политики. Юрист оказывается бессильным смоделировать экономические и иные практические последствия, к которым принятие той или иной нормы приведет. И соответственно законодателям и судам, которые (в отличие от ученых) неизбежно вынуждены держать в уме и просчитывать конкретный общественный эффект своих регулятивных решений, опереться на исследования таких юристов-догматиков оказывается затруднительно. Если, например, юрист знает только то, как в российском и (в лучшем случае) зарубежном праве подходили и подходят к вопросу о снижении неустойки судом, но не вникает в истинные причины и цели предоставления судам такой дискреции и связь данного института с конкретными социально-экономическими условиями и этическими ценностями, ему крайне сложно давать продуманные советы законодателю или судам в отношении того, какие нормы следует принимать на сей счет в нашей стране, сталкиваясь, скажем, с вопросом о возможности исключения применения института снижения неустойки, включенной в акционерные соглашения.
Иначе говоря, юрист, который видит только конкретные изменения в законах и судебной практике и не анализирует истинные их основания, подобен тому медику, который наблюдает ход болезни, но не осознает ее причины и не интересуется путями эффективного лечения. С учетом того, что позитивное право как таковое существует не само для себя, а именно для «лечения» и «профилактики», сугубо догматическая методология хотя, безусловно, крайне важна и полезна, особенно в плане дидактики и практического правоприменения, но имеет достаточно ограниченные возможности применительно к выявлению глубинной сущности правовых проблем и анализу данных проблем de lege ferenda. Для того чтобы оценить истинные масштабы айсберга, следует погрузиться под воду. Так же и в праве – чтобы понять истинную суть любой догматической проблемы и найти лучшие варианты ее решения, необходимо заглянуть за границы позитивного права.
Некоторые юристы считают, что их воззрения на право носят сугубо нейтральный характер и никак не связаны с той или иной экономической теорией или этической системой. Этот самообман или умышленное введение в заблуждение приходилось не раз наблюдать при анализе истории права. Так, например, немецкие пандектисты всеми силами пытались скрыть свои глубинные политико-правовые (на самом деле либерально-экономические) пристрастия за отсылками к догмам римского права. Только внимательный читатель, который начинает обращать внимание на то, почему те или иные римские нормы пандектистами догматизировались, а другие придавались забвению, мог осознать, что рецептивная избирательность и само направление процесса формирования логических конструкций, возводившихся пандектистами на основе обобщения римских норм, отражали доминирующие в среде немецких классических правоведов-цивилистов и близких им интеллектуальных и экономических кругах идеологические предпочтения, этические установки и экономические теории (в первую очередь абсолют частной собственности и невмешательство государства в свободу экономического оборота)[55].
Аналогичная ситуация имела и отчасти имеет место и в других странах. Судьи общего права в рамках так называемой декларативной теории долгое время (в США – до 1930-х гг.) пытались создать видимость того, что их решения, революционно максимизирующие сферу договорной свободы, есть некая механическая дедукция и чуть ли не единственно возможное следствие неких непреложных естественных истин, которые суды лишь декларируют, но ни в коем случае не их собственное креативное правотворчество. Представители французской школы экзегезы в XIX в. настаивали на том, что вся правовая наука сводится к комментированию кодекса, а французский Кассационный суд до сих пор не упоминает в своих решениях политико-правовые аргументы, притворяясь, что все решения даже в самых спорных пробельных зонах закона он якобы выводит напрямую из толкования Гражданского кодекса.
Такой подход был всегда достаточно безопасен для юристов и правотворцев. Всегда намного проще проводить в жизнь свои идеи, в реальности основанные на оценке справедливости и комплекса утилитарных соображений, предоставляя аргументацию в качестве идеологически нейтральных дедукций из неких непреложных аксиом, даже если они на самом деле никакие не аксиомы и отсылки к ним носят чисто фиктивный характер. С риторической точки зрения техническое «камуфлирование» творческих инноваций под механическое следование формальной логике, представление своего субъективного мнения в качестве интерпретации неких авторитетных источников и сокрытие истинных идеологически далеко не нейтральных мотивов вызывают меньше сопротивления и упрощают принятие тех или иных идей. Гораздо сложнее честно раскрывать истинную политико-правовую подоплеку принимаемых решений или выдвигаемых предложений, тем самым демонстрируя их рукотворность и соответственно субъективизм.
Но претензия на идеологическую нейтральность – это не всегда осознанный риторический прием, упрощающий убеждение оппонента. Часто это зачастую банальный самообман, вызванный неотрефлексированностью собственных идеологических предпочтений или предубеждений. Поэтому пока юрист тщательно не осознает собственные экономические и этические воззрения хотя бы на самом общем уровне, его правовые взгляды не окажутся сколько-нибудь последовательными и логичными. Ученый в современных условиях не может позволить себе не видеть тех глубоких идеологических (экономических, но также и этических, философских и иных) оснований, из которых вытекают базовые юридические принципы, доктрины и идеи. Следует помнить, что за каждой prima facie чисто технической дискуссией юристов скрываются некие важные политико-правовые ставки, идеологические или этические установки и экономические доктрины независимо от того, осознают ли это участники спора или нет[56].
Таким образом, анализ самой истории развития позитивного права и догматики действующего российского и зарубежного права абсолютно необходим. Но он должен быть по возможности вписан в широкий политико-правовой контекст и в конечном счете нацелен на выведение предложений по совершенствованию российского права. Поэтому в рамках настоящей работы мы пытаемся разворачивать вопросы свободы договора и ее ограничений политико-правовой стороной в рамках анализа de lege ferenda, но при этом стараемся не упускать из виду догматические ограничения, которые накладывает российское законодательство, когда те или иные решения предлагаются de lege lata.
При этом при всей очевидности изложенных тезисов куда проще призывать к анализу политики права, чем такой анализ провести. Долгое время не существовало в принципе какой-либо научной методологии такого анализа, что препятствовало полноценному обращению цивилистов к изучению содержательной рациональности частного права и проблемы договорной свободы в особенности. Система полноценного научного анализа политики права начала развиваться только в ХХ в. и особенно активно в последние 30–40 лет. Но до сих пор говорить о формировании некой однозначной и всеобъемлющей методологии научного анализа политики права рано.
В то же время, несмотря на эту проблему методологической неопределенности, современный ученый просто не вправе игнорировать прямой анализ того, каким позитивное право должно быть с содержательной точки зрения.
Тут, правда, возникают серьезные эпистемологические сложности. Более широкий взгляд на правовые проблемы требует погружения в области знания, в которых у юристов часто недостаточно научной экспертизы (социология, экономика, моральная философия и т. п.). Понимание того факта, что проведение элементов междисциплинарности в научное исследование в области правовой проблематики требует предварительного изучения соответствующей литературы и освоения чуждого научного аппарата, часто становится серьезным барьером для использования такой научной методологии. Кроме того, возникают серьезные риски не учесть всех нюансов соответствующих внеправовых научных дискурсов, выдвинуть поспешные суждения и ошибиться в прослеживании тех или иных каузальных междисциплинарных взаимосвязей.



