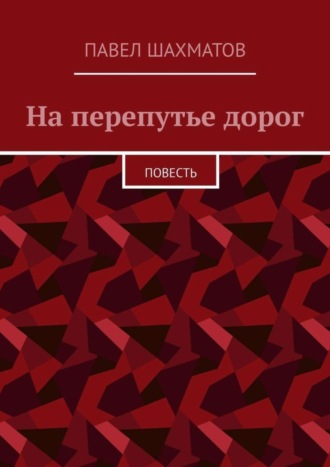
Полная версия
На перепутье дорог. Повесть
Окончилась третья четверть, в школе объявлен двухнедельный отдых. Михаил Сергеевич решил поехать домой, навестить мать, братишку, сестренку и бабушку.
За несколько дней до отъезда, случайно, как ему показалось, он встретил Елену Яковлеву около магазина.
– Вы, едите домой, -спросила она.
– Да, – ответил он.
– А почему, Елена, ты стала так относится ко мне, почти перестала здороваться и всячески избегать. В чем дело?
– Да ничего, просто так.
– Нет, что-то просто совсем не так, скажи прямо и откровенно, – попросил Михаил Сергеевич.
Наступила молчание. Он видел взволнованное, покрытое ярким румянцем лицо девушки и ждал от нее ответа. Елена продолжала молчать.
– Ну, хорошо, я всю дорогу буду думать о том, в чем все же я виноват, а как только пойму свою вину, я тебе обязательно напишу- улыбнулся Михаил Сергеевич.
– Пожелай мне счастливого пути, Елена.
– Счастливо, до свидания, – это все, что она сказала, – быстро повернулась и ушла.
К восточному концу деревни, вторая и третья улица сходились в одну и дальше дорога шла круто в гору, в конце ее находилась просторная, деревянная церковь. У подножья горы находилась кузница и вальцовая мельница семьи Тулимовых, которая чаще ломалась, нежели работала, ввиду ветхости оборудования. Кузница же работала исправно, умелый кузнец полностью обслуживал не только свой поселок, но и соседей. Старший в семье, семидесятилетний Сергей Степанович, еще в России был мастером на машиностроительном Воткинском заводе.
На Воткинском заводе создавались высококвалифицированные кадры специалистов и мастеров по всем многочисленным профессиям огромного производственного предприятия. Профессии, большей частью, переходили по наследству. Сыновья рабочих, после окончания учения в школе, становились подручными и подмастерьями на заводе. Нередко бывало, когда рабочий, достигал пенсионного возраста, передавал свой станок сыну.
Сын Сергея Степановича, Терентий, когда началась Гражданская война был подмастерьем на заводе в машиностроительном отделении. Рабочие Воткинского и Ижевского заводов, не приняли диктатуру пролетариата и выступили против большевиков, примкнув к восставшим крестьянам. Сам Тулимов и его семнадцатилетний сын вступили в ряды рабочей армии.
Воткинский и Ижевский заводы сформировали и вооружили две воинских единицы, численностью до 25 000 бойцов воткинцев, ижевцев было 15 000 человек. Под командованием генерала Каппеля армия одержала ряд громких побед, но силы были не равны и с тяжелыми боями рабочая армия медленно отступала на Восток. После полного поражения в гражданской войне, многие ушли в Китай, среди них была и семья Тулимовых, которая вместе с ними несла тяготы «Сибирского ледового похода».
Терентий Сергеевич, когда критически не хватало запасных частей для сельскохозяйственных машин, старался некоторые из них произвести сам. Ему с отцом приходилось работать напряжено в горячую пору сенокоса и уборки урожая.
После войны, на полях сражений, оставалось много разбитой техники. Так вот, одну разбитую трехтонку, Терентий Сергеевич приволок (в полном смысле этого слова), так как колес у машины не было и начал, между делом, ее восстанавливать. Пять лет взяло у него, чтобы машина «ожила», и что только там не нужно было заменять! Так как бензин не возможно было достать, он подделал мотор на газ. Для этого установил на машине топку, котел, при плотной загрузке древесиной (чурочками) и ее сжигании вырабатывался горючий газ, который шел в цилиндры. Приспособил окованные железом деревянные колеса, сделал рулевое управление.
И в один прекрасный день, Терентий Сергеевич решил испытать свое «изобретение». Мотор с шумом завелся, а когда машина тронулась, все начало скрипеть, трещать, на ухабах это необычное «творение» страшно трясло. Мальчишки, изъявившие желание прокатиться, начали на ходу выпрыгивать из кузова, метров через сто, машина встала, что-то отвалилось. В итоге, подогнали быков и отвезли «чудо техники» на то место, откуда начался ее «героический путь». Может быть Терентий Сергеевич и добился бы своей цели, но начавшиеся события похоронили его мечту.
Второй переулок начинался от озера, пересекая все улицы, он уходил в гору. По этой, поперечной улице была расположена большая (в масштабе поселковых) школа – семилетка, тут же дом, имеющий несколько квартир для учителей и отдельный домик для сторожа.
В конце улицы, по обе стороны находились дома сельских богачей, они выделялись своим размерами, размахом приусадебных построек. Это были братья Митрохины, Шиловы, братья Юзовы, Михайловы, Былковы и др. Если разобраться, то все верхние улицы (третью и четвертую) вообще занимали крепкие, зажиточные мужики. При основании поселка, первоначально все селились внизу под горой, но шли годы, семьи увеличивались, началось строительство новых домов, а старые продавались вновь прибывшим поселенцами, которых также привлекали просторы горных и речных долин.
Последний месяц зимы февраль и первый месяц весны, время подготовки к посеву. Чинился сельскохозяйственный инвентарь, поправлялась сбруя, налаживали телеги, требовалось заново перетянуть шинами колеса. Вывозили с поля последние запасы сена, часть этого сена нужно было отвезти на заимки, чтобы подкармливать рабочий скот во время пахоты, так как трава только что начнет появляться на проталинах.
Заготовлялся лес для починки стаек, дворов, огородов. За материалом нужно было ехать далеко, по близости уже все было вырублено. Приготовляли молодых бычков к пахоте, запрягали их в телегу и возили на них какой ни будь не значительный груз. А на масленице обучали молодых лошадей отчаянные подростки, лихо носясь по степи.
Свадьба в Трехречье в 30-е годы
С Рождества Христова и до самой масленицы было время, когда проходили свадьбы, но главным образом они справлялись осенью, после того, как заканчивалась уборка урожая, тогда значительно больше было свободного времени. Женились, большей частью на местных девушках, но были нередкие случаи, когда невест привозили с других поселков и, даже из городов. При нежелании родителей отдать свою дочь за «чужака», или парень родителям был не по душе, отверженный жених пускался на крайности, «воровал» невесту.
О «методе» похищения уже было сказано ранее, но необходимо отметить особый случай, когда сватовство совершалось не единожды, как и «воровство» этой невесты происходило несколько раз. Молодые, о которых пойдет рассказ, жили в разных местах, девушка в небольшом отдаленном поселке, от Николаевки вниз по течению реки. Познакомились они на танцевальной вечеринке, когда молодежь собралась отовсюду на какое-то торжество и с тех пор парень и девушка стали тайно встречаться. В один прекрасный момент девушка заявляет родителям, что она выходит замуж. Для родителей, это как гром средь ясного дня разразился, в первое мгновение они не нашли даже нужных слов, а когда нашлись слова, то тут и началось.
– Ты, что с ума сошла, – громко крикнул отец, – мы даже не знаем, кого ты подцепила, негодница. Ты еще молода думать о замужестве. Да, я тебя на заимку упеку, будешь там жить безвыездно.
– И, кто твой хахаль, – ввязалась в разговор мать, – у нас в поселке, почти одно родство.
– Дима, с Николаевки. Такое признание только добавило пылу разгоряченным родителям.
– Мы его не знаем, да и кто его родители, может быть пьяницы, неудачники, нищету будешь плодить.
– Нет, не быть этому и забудь о нем навсегда, – уже кричал отец
– Помогать надо матери, ты единственная помощница, без тебя она не справится со своей домашней работой, семья большая, – продолжал рассерженный отец.
– Вот, поженятся старшие братья, тогда и думай о свадьбе, тоже нам невеста, жить то путём еще не научилась, – ворчала мать.
– Да вы его не знаете, он очень хороший, Мальковы известные люди в поселке. Но никакие доводы, бедной девушки, не принимались, а только еще больше возбуждали разгоряченные сердца родителей. Маня со слезами выбежала из дома.
Егор Семенович и Вера Антоновна Тюрины считали, что они успокоили, вразумили дочь. Но не тут то было, Маня сообщила своему возлюбленному, чем закончился ее разговор с отцом и матерью.
Родители Дмитрия решили, чтобы уладить этот вопрос им нужно самим поехать сватать Марию. Надо было взять паузу, чтобы все успокоились, приутихли, но к сожалению этого не произошло. А поэтому, на следующей недели, когда приехали родители Дмитрия, Тюрины их даже не пустили в дом.
Дмитрий оказался не из тех кто пасует перед лицом неудач, разработал свой план, как похитить невесту. Об этом он сообщил девушке запиской, поздним вечером в назначенное час он должен встретить ее за околицей вместе с подружкой Аней. Первоначально все шло по плану, девушки пришли в указанное место, Маня прихватила с собой узелок с одеждой, девушки быстро сели в кошеву и пара добрых лошадей с места рванула в открытое поле.
Все бы обошлось, да кто-то заметил заговорщиков и сообщил родителям. За беглецами бросились верхами на лошадях Манины братья, быстро их настигли. Дмитрий попробовал сопротивляться, но крепкие ребята быстро его скрутили, намяв ему бока усадили в кошеву, направили лошадей на дорогу, ударив нагайкой по кореннику. Кони с места рванули и кошева с незадачливым женихом исчезла в ночном мраке, а бедную Маню и подружку по темноте заставили идти обратно в деревню пешим ходом.
С этой поры Маню никуда не выпускали из поселка, да и Дмитрию сюда путь был заказан. Единственное, что связывало влюбленных, это редкие записки, что передавались через верных им людей.
Широкая масленица особое время года, ее можно рассматривать, как озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. В древние времена люди воспринимали весну, как зарождение новой жизни, а солнце глубоко чтили, как дающее жизнь и силу всему живущему на земле. В честь небесного светила был установлен «праздник солнцу», когда выпекали пресные, круглые лепешки, в последствии из особого теста стали печь блины.
Это говорит о том, что с принятием христианства не все языческие обычаи были полностью устранены, они были представлены в таком виде, чтобы не противоречили церковному учению. С точки зрения церкви масленица (сыропустная неделя), это не только время плотских увеселений, а в первую подготовка к Великому посту. По установленным канонам церкви, перед Великим постом христиане должны примириться с ближними своими, да вообще, со всеми, кого вольно, или невольно обидели. Церковь никогда не одобряла и не одобряет пьянство и обжорство, но широкая масленица «нарушала» эти запреты. Масленица заканчивалась прощеным воскресением.
Совсем недавно, масленицу в деревне справляли широко и привольно, последние годы, сложившаяся обстановка внесла свои коррективы. Наступили другие времена, если раньше люди строили радужные планы, веселились от всей души, теперь же перед ними картина полной неопределенности. В народе постоянно обсуждалось свое будущее и никто не знал, что будет с ними завтра, тем более через год.
Даже во время праздничного гуляния старшее поколение, образуя отдельные группы, обменивалось новостями, своими соображениями о их будущем, причем, каждый имел свои определенные убеждения и взгляды. В народ уже проникли коммунистические идеи, иногда обсуждение их, у разгоряченных алкоголем людей дело доходило до открытых столкновений. Только у молодежи еще до какой – то степени сохранялось дружеское общение.
На масленице главным развлечением для подростков было катание на молоденьких лошадках, большей частью, двухлетках. Устраивались состязание в беге на определенное расстояние, а то всей ватагой с гиком, криком, пригнувшись до самой гривы мчались в открытое поле. Взрослые парни на тройках катали по улицам девушек, на передней виртуозно наигрывает гармонист, лихо сдвинув шапку на затылок. Выехав за околицу, тройки мчатся по открытому полю, комья снега летят из под копыт, лошади, вытянув шеи несутся, едва касаясь земли. Звонкие девичьи голоса широко разносились по безбрежному снежному полю. Вечером вся молодежь шла в клуб и веселье продолжалось до полуночи.
Как уже упоминалось, что гулять большими компаниями, было обычным явлением в деревнях. И на этот раз за столом у Ефима Николаевича Шилова собралось много народу, это были близкие и дальние родственники, друзья и соседи. Были и приезжие гости.
Деревенское угощение не сильно отличалось своим разнообразием, но все, что возможно было приготовить из молочных продуктов, стояло на столе и, конечно, горы блинов. Еще совсем недавно можно было свободно достать любого сорта и вкуса рыбу, икру, но все это стало исчезать, а во многих местах все это уже исчезло с прилавков. Нет, как бывало большого выбора вин, коньяка, как крепкий напиток, теперь, преобладает с специфическим запахом китайская водка (хана).
Вскоре, после приветствий, взаимных поздравлений, пожеланий пошел оживленный разговор о современных событиях, заговорили и про былое, вспоминали «минувшие дни».
– А помнишь сосед, как в старину гуляли, «там», целую неделю и как молодежь каталась на санках с горы, подростки на молоденьких лошадках носились по широким улицам.
Никак нельзя забыть, то, что вошло в сознании людей и навсегда укоренилось. Это «там» будет у них в памяти вечно. И своим детям они рассказывали про родной край и внукам говорят об этом, а также кто виновен в том, что они покинули родину.
– Захар, а Захар, ты помнишь бегуна Савелия Ерохина? На пять верст не было ему равных во всей округе. А вот мой гнедко, в последнем забеге, обошел его на целую голову. Это было еще до прихода японцев.
Вмешался в разговор хозяин дома, Ефим Николаевич Шилов.
– А знаешь ты, чей конь был лучшим на дальний пробег?
– Как не знать, хорошо помню. Да вот только не уберег ты его.
– И здесь мои кони славились, кто не помнит пробег до города Хайлара – продолжал Ефим Николаевич. Не много, не мало, а восемьдесят верст.
– Опеть нам придется бежать, бяда, плохо становится здеся жить. А ведь было то какое приволье, душа радовалася – встревает в разговор, весьма захмелевший, дед Митрохин.
– А бежать то теперь, куды? – продолжал он.
– Ну, хватит тебе, дед. Никто никуда не побежит, – успокаивал его хозяин.
А между тем разговор становился все громче и громче. Но вот, среди шума, гама и громких голосов, раздается красивого тембра голос хозяина, все, как по команде замолкают. С оттенком грусти зазвучали звуки бархатного баритона, полилась над столом всем известная песня: «Слава, вам, братцы, герои Амура…». Он пел с таким, захватывающим душу чувством, что некоторое время все молчали, но вот, один, потом другой и, наконец, все застолье подхватило эту песню. Сильный тенор берет все выше и выше, и кажется, не вынесет, сорвется. Густой бас, большой силы и яркого тембра, как бы старается его придавить, но тенор с еще большей силой берет самый верх, звонкие, мягкие, чувствительные ноты льются нежным звучанием.
Красиво вплетаются в хоровое пение, женские голоса. Одна песня следует за другой, в которых «то раздолье удалое, то сердечная тоска…». В словах песен звучала глубокая страстная любовь, безумное веселье, то скорбь русской души. Некоторое время, под впечатлением исполненных песен, тихо беседовали о родных просторах, о родном казачестве, его славе и величии.
Но вот заиграла гармонь, невестка Шиловых плавно прошлась по кругу, помахивая в такт платочком, за ней одна за другой двинулись молодые девушки, а вот и мужчины пустились в пляс. Когда заиграл гармонист «русскую», выскочил в круг подросток, лет десяти да такие начал выделывать фигуры, гости повскакали с мест, чтобы получше разглядеть танцора. А он то начнет крутиться волчком, то пустится в лихую присядку, то выбивает мелкую дробь.
– Настоящим, паря, казаком будет, – подметил дед Степан Митрохин.
– Чьих, этот паренек-то будет? – спросил подслеповатый дед, всматриваясь в танцора.
– Внук хозяина.
Ефим то сам не плохой казак, – дал свою оценку дед Степан.
Снова хозяйка просит всех к столу, подают свежие горячие блины, Ефим Николаевич обносит хмельной чаркой гостей.
Если раньше, во время Великого поста, прекращались разного рода увеселения, в первую очередь песни и танцы, то теперь активистов – сэсээмовцы то не смущало, они устраивали вечера, в любое время. В Советском Союзе, несмотря гонению на религию народ тянулся к ней, не исключая и молодежь, но ей было весьма сложно попасть в храм. Вот, что говорил профессор Московской Духовной Академии, протоиерей Сергей Светозарский: «Чтобы войти в храм перед началом Пасхальной службы, нужно было обмануть, так называемых дружинников – это были не дружинники, а работники райкома комсомола. Мимо их надо было идти твердым шагом, делая вид, что идешь мимо храма и прямо у ограды резко свернуть в ворота и пройти. Надо сказать, что это удавалось».
Вот такое парадоксальное явление. В Советском Союзе народ тянется к религии, а здесь, на Маньчжурской территории, где всегда твердо соблюдались прежние устои жизни и законы веры, начинает все это изживаться усилиями местных «комсомольцев». К сожалению, в большинстве случаев противостояние этому явлению со стороны старшего поколения было весьма пассивным. Только в некоторых семьях на это было обращено внимание, и шла воспитательная работа со своими детьми.
Старые учителя еще до революционного воспитания, в душе не могли принять искаженную историю России, не мирились и с прекращением религиозных занятий по школьной программе, но при этом они не могли открыто заявлять о несоответствии тех, или иных утверждений в советских учебниках
В этом году Пасха была ранней, в начале апреля, с полей уже сошел снег, только в лесу и в оврагах тают его остатки, иногда бывают затяжные дожди с мокрым снегом, температура низкая, воздух еще не прогрелся, а поэтому вечерами бывает прохладно.
Светлое Христово Воскресение важнейший и самый почитаемый праздник в христианском мире, отмечают это «праздник праздников» особенно величественно и торжественно. Пасхальное Богослужение начинается в субботу вечером, в полночь начинается крестный ход, после троекратного обхождения храма в сопровождении духовного песнопения, все останавливаются у главного входа в храм, где священнослужитель извещает благую весть «Христос Воскресе», ему дружно отвечают верующие: «Воистину Воскресе» затем совершается Пасхальная Заутреня, после ее окончания начинается Божественная Литургия.
Окончилась Пасхальная служба, верующие поздравляют друг друга, «христосуются», расходятся по домам и усаживаются за праздничный стол, чтобы совершить разговение. По установленному обычаю хозяйки готовят обильный стол, где предпочтительно уделено место мясным блюдам, а также сдобному печению, кроме того подаются пасхальные блюда: творожная пасха, куличи, яйца. Большей частью разговение совершается исключительно в семейном кругу, начиная с приветствия друг друга с пасхальной радостью, Воскресением Христовым.
Отправляясь в гости, после приветствия друг друга славами: Христос Воскресе – Воистину Воскресе, обменивались крашенными яйцами.
Приветствие друг друга словами Христос Воскресе – Воистину Воскресе, начатое в Пасхальную ночь, продолжается до Вознесения Господня.
В Православном мире Пасхальные торжества не оканчиваются Светлой седмицей. Молитвенное празднование Воскресения Христова длится в течение сорока дней до праздника Вознесения Господня. Первое воскресение после Пасхи в народе называют «Красной горкой». Обычно на «красную горку» устраивали свадьбы, считалось, что свадьба в это время есть залог счастливой семейной жизни.
Молодежь устраивает катание на качелях, что является центром развлечения в эти дни, также проводятся разные игры и забавы.
Ученики вернулись в школу, началась последняя учебная четверть, а там экзамены и, наконец, летний отдых. Вернулся из города и Михаил Сергеевич, очень довольный, что провел отпуск с семьей. А между тем, ему, который в своей жизни еще не встречался с романтичными приключениями, постоянно приходило в голову непонятное поведение Елены Яковлевой и он не находил тому объяснение. В конце концов, он окончательно решил с ней поговорить откровенно, но Елена его избегала, из веселой смешливой она превратилась в замкнутую, редко улыбающуюся девушку.
Елена стала хуже учиться, на что обратили внимание ее родители, они решили поговорить с Михаилом Сергеевичем, так как он был наставником класса. Разговор никакого результата не дал, никто из них не понимал в чем дело. Тогда решили пригласить Елену и уже в ее присутствии выяснить, что ее волнует и чем она обеспокоена. На все вопросы она отвечала, что с ней все в порядке, она здорова, а то, что стала отставать по учебе, она постарается исправиться. Все, казалось, остались довольны и успокоились.
Елена по-прежнему при встречи с Михаилом Сергеевичем сухо здоровалась, старалась не встречаться с ним, даже в коридорах школы. После занятий он попросил ее задержаться и прямо спросил:
– Почему последнее время ты сильно изменилась и избегаешь меня. В чем дело, я не чувствую никакой вины перед тобой, Елена?
– А вы как будто бы не знаете, – нервно перебирая кончики платка, промолвила Елена.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, объясни. У бедной девушки навернулись слезы на глазах. Она медленно подняла голову, по ее щекам катились слезы
И тут, молодому человеку, неискушенному в романтических делах, все же до какой – то степени стало понятно, его сердце дрогнуло от жалости к ней и в то же время сладостный трепет пробежал по его телу. Он находился в растерянности и не знал, что сказать. Наконец, спросил Елену.
– В чем моя вина, скажи откровенно, мне будет легче, я буду знать, что тебя волнует? Михаил понимал, что она ждала от него не этих слов, а понимания ее трепетного состояния души.
– Разве Вы не понимаете, – бледность покрыла ее прелестное лицо, юное тело девушки вздрагивало, сладкий ужас первого признания овладел ею, смущенно потупив взор, она тихим голосом произнесла.
– Я люблю вас.
Михаил Сергеевич на какое – то мгновение растерялся, он этого не ожидал, признание девушки смутило его. Он почувствовал себя виновным, что позволил юной девушки дойти до этой черты, она была трогательно беспомощна, страх и растерянность были в ее взгляде.
– Елена пойми, ты милая, хорошая умная, девушка, это у тебя всего лишь увлечение, которое, я уверен исчезнет также быстро, как оно и возникло, – сказал он.
– Ты еще совсем юная, тебе надо учиться, чтобы быть успешной не нужно отзываться на разные порывы сердца, -продолжал Михаил Сергеевич, – я уже взрослый человек, а тебе только шестнадцатый год. Останемся друзьями и пусть все будет так как, это было до этого.
Елена ничего не ответила, с глубоким унынием взглянула на Михаила быстро повернулась и не попрощавшись, ушла. У него было желание догнать ее, что-то сказать, а что сказать он и сам не знал. Ему было больно и досадно, что он заранее не понял до конца внутреннего состояния девушки, ее взволнованный испуг первого признания, болью отразился в его сердце.
Михаил Сергеевич даже не допускал мысли ответить взаимностью этой юной, прелестной девушке, хотя она ему очень нравилась. Ее милая улыбка на чистом и свежем лице, смелый взгляд слегка прищуренных глаз нередко волновали его воображение.
Потянулись однообразные школьные дни, в старших классах повторялся пройденный материал, шла подготовка к предстоящим экзаменам. Михаил Сергеевич уже свыкся с мыслью, что все постепенно образуется, все войдет в свое русло, но ему почему-то становилось тоскливо от того, что она избегает его.
Как-то Татьяна Петровна заметила ему, что он сильно изменился, менее стал интересоваться спортом.
– Да, вот ты Миша и меня не приглашаешь в клуб на танцы. Уже давно мы не смотрели фильм.
– Раз так, в следующее воскресение идем на танцы, улыбнувшись, заверил он.
Зимой клуб большей частью пустовал, только в воскресные дни там шел просмотр какого-нибудь кинофильма, устраивались танцы, иногда приезжали служащие советского консульства, проводили лекции про счастливую жизнь в Советском Союзе. В дальнейшим их наезды будут чаще и работа будет проводиться в более широком масштабе.
Клубное помещение не протапливалось в течение недели, разжигали печь за несколько часов до начало того, или иного развлекательного действия. Естественно, вместительное помещение полностью не нагревалось, но это мало кого смущало.
Из музыкальных инструментов неизменно присутствовала гармонь, иногда гармонисту подыгрывали на балалайке. Музыкантов было достаточно. Одни были настоящими, некоторые даже виртуозами, а иные только сами себя считали музыкантами. Тем не менее, музыкальный «вопрос» разрешался всегда безболезненно и просто, желающих играть всегда было много.
Танцевали большей частью старинные русские народные танцы и, конечно, неизменно «русскую», или чечетку. Девушки рассаживались по одну сторону, ребята по другую. Танец начинали уже «сформировавшиеся» пары, а потом, уже кто посмелее шел приглашать понравившуюся ему девушку. Некоторые из-за своей стеснительности так и просиживали весь вечер, если какая-нибудь отчаянная девушка не пригласит сама. Было много любителей танцевать лихую «русскую», тогда в зале все шумело, гремело, стучало. Некоторые парни и девушки специально поступали в танцевальный кружок, учились у «профессионалов».



