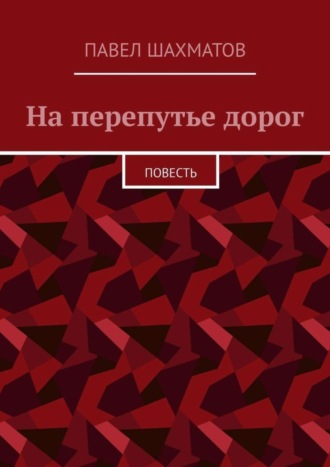
Полная версия
На перепутье дорог. Повесть
Первые две улицы деревни Николаевки, были расположены у склона пологой горы, которая имела в этом месте полукруглую форму, вдавленную во внутрь. Восточный склон горы прижимался к озеру, большей частью мелководному, особенно в засушливое время года, оставляя неширокий дорожный проезд. Западная часть горы близко подходила к самой реке, со стороны долины и до самого ее подножия росли густые кустики ерника, стелящегося, выносливого и неприхотливого можжевельника, багульника, тут же среди них краснели невысокие кустики шиповника. Берега озера были малодоступны, большей частью заросшие камышом, или заканчивались крутыми обрывами, водилось в нем два-три сорта рыб, главным образом караси.
В конце двадцатых, одними из первых поселенцев Николаевки были люди из пограничных поселков Трехречья, где с каждым годом становилось жить все опаснее и опаснее, были частые случаи, когда выкрадывали людей и они бесследно исчезали. Крайне сложной была обстановка в период советско-китайского конфликта (1929 год), когда жители ближайших к границе поселений были полностью разорены, а в некоторых поселках население было просто уничтожено карательными отрядами.
Население пограничных деревень бросали дома, погрузив на телеги все, что можно было взять с собой, поспешно покидали эту опасную зону. Кое-кто из них, еще до революции имели заимки на китайской стороне, где держали молодняк, не рабочих лошадей, отары овец. Поэтому, покинув свои родные станицы, оставив там все, что было нажито годами, они находились в гораздо лучшем положении, по сравнению с теми, кто бежал, прихватив с собой только то, что можно было унести.
Беженцы с Трехречья в Николаевке безболезненно адоптировались на новом месте, а благодаря природным условиям, в первую очередь великолепными пастбищными угодьями с травами, имеющие высокую питательную ценность, их достояние стало быстро увеличиваться. Малоимущие имели возможность у них подрабатывать, постепенно и они сами становились хозяевами.
Деревня находилась в той части Хулунбуирского хошуна, где административное управление районом пока еще полностью находилось в руках монголов. Многие монголы имели большое количество баран, скота, лошадей и в основном вели кочевой образ жизни. Они охотно давали русским в аренду рабочий скот за небольшую плату. Нередко случалось, когда в холодные и снежные зимы, не было заготовлено необходимое количество сена для подкормки молодняка, тогда монголы отдавали его на определенных условиях русским крестьянам на прокорм. Из числа выживших зимой телят, монголы получали обратно большую их часть, но иногда только половину, смотря какой договор, так в деревне появился монгольский скот. Коровы были не очень удойные, но молоко было жирным.
Население деревни росло быстро и уже следующие две улицы шли по склону горы, постройка здесь существенно отличалась от других улиц. Это были наиболее просторные рубленные дома с палисадниками, расположенные вдоль улиц более гармонично и отличались своим разнообразием отделки. Фасад дома украшали белыми резными наличниками на окнах, некоторые делали резную окантовку дверей, от чего вид дома становился более привлекательным.
В русских поселках, образовавшихся на территории Маньчжурии, главным образом в районе Трехречья, Южно-Аргунского хошуна, сохранялись и береглись древние обычаи. Как и в дореволюционной России, оставалась неизменной этика семейных отношений, гостеприимство, взаимовыручка, также принято было старших называть по имени и отчеству. Существовала своеобразная структура русского праздника, которая включала в себя как религиозные, так и народные традиции. Семьи в основном были многодетными, старались сохранять единство семьи, как можно дольше, помогая друг другу «встать на ноги», поэтому всегда существовала братская поддержка и взаимовыручка в трудный момент. Беженцы одновременно с личным благоустройством, возводили православные храмы и школы.
Существенную власть имели выборные обществом атаманы, до прихода японцев, они полностью контролировали ситуацию в своих станицах и поселках. Атаманами выбирали людей авторитетных из числа бывших военных, отличившихся на фронтах сражений и они долгие годы в поселках поддерживался тот порядок, что существовал в их станицах на родине до революции.
Трехречье расположено в долинах трех рек: Ган, Хаул, Дербул, впадающих в реку Аргунь. Свое начало реки берут в предгорьях Хингана. В основном Трехречье заселено забайкальскими казаками, многие из них жили у самой Аргуни на ее левом берегу. Некоторые из них, как уже упоминалось, имели заимки на монгольской земле, где держали скот. Большинство беженцев оказались в Южно – Хулунбуирском хошуне, спасаясь от угроз, репрессий и коллективизации, но отдельные перебежчики были вплоть до военных событий 1945 года. Ган. Снимок 2017 год. Купается Г. Баранов.
Среди большинства выходцев из Забайкалья, в их религиозность глубоко проникли буддийские идеи. Русские обращались с просьбами к шаманам, в случае болезни, или за любой иной помощью. Многие почтительно относились к бурханам (божеству) и «чтили святые бурятские места». В определенном месте, главным образом на вершине наиболее высокой горы, устанавливалась вылитая из бронзы, или меди статуя Будды и это место для монголов считалось обителью добрых духов-покровителей. В определенный день почитания Будды, монголы на это место приносят дары, главным образом это сладкая еда, например, как с сахарной начинкой пряники – «бобоны», специального изготовления и другие пряности, цветы, а также спиртные напитки.
Постройка домов проходила в том же стиле, что и на родине, были все те же предметы домашнего обихода, в любом доме устанавливалась русская печь, почти, у каждого была баня. У многих при доме имелся небольшой огород, где обязательно имелся «рассадник». Это приспособление, огражденное досками, или горбылями, заполнялось навозом, сверху его посыпали толстым слоем земли, где выращивалась рассада капусты, помидор, огурцов, брюквы, редиски и. т. п. На ночь «рассадник» закрывали, предохраняя от заморозков, а днем держали открытым. Через какое-то время рассаду распределяли по грядкам.
Во дворах строили сараи для коров. Крышу покрывали соломой, а стены обносили плетнем, более защищенные от ветра и холодов укрытия делали для свиней и кур. Остальные дворы обносились разной изгородью. Дворы делились на скотские, конские, телятники, овчарни, последние определяли в подветренной стороне, овцы очень чувствительны к влажности.
В Забайкалье старались вывести улучшенную породу овец, завозили мериносовых баран, качество шерсти значительно повысилось, но эта порода требовала хорошего кормления, нуждалась в специальном уходе, зимой необходимо было создавать для них теплые условия.
Монгольские же овцы не прихотливы, они отличались жизнеспособностью, выносливостью, выработанной в течение веков в условиях кочевого содержания под открытым небом. Монгольские овцы сравнительно легко переносили любые суровые периоды маньчжурской зимы. Поэтому в Маньчжурии преобладала монгольская порода, мериносовые овцы встречались очень редко.
Жители поселков налаживали тесные контакты с находящимися вблизи городами и эта связь естественным образом влияло на деревенскую жизнь, пусть медленно, но все же меняло ее облик. Увеличилось число детей обучающихся в городе, в пятидесятые годы можно было встретить не малое число окончивших среднюю школу, не говоря уже о семилетнем образовании. Большее значение стала приобретать мода, пиджаки, галстуки, пальто сапоги становятся весьма распространенными среди молодежи. Женщины и девушки стали одеваться в шерстяные, или шелковые платья, появились модные юбки и кофты. Теперь уже редко встретишь разноцветный сарафан, который всегда являлся главным элементом женского традиционного костюма.
Три класса обучения Степан прошел в родной Покровке. Когда семья перебралась в Николаевку, на тот момент здесь была только начальная школа, которую Степан окончил с отличием. Чтобы дальше продолжить учение нужно поступать в гимназию, но у матери не было достаточно средств, чтобы отправить сына в город. Не имея возможности учиться дальше, Степан находил радость и удовлетворение в чтении книг, которые он брал в школьной библиотеке, иногда книги привозила из города мать. Галина Тихоновна хорошо понимала душевное состояние своего сына, его горячее желание учиться, но ничем ему помочь она не могла, Степан был единственным ее помощником в семье.
Мечта учиться, наконец, сбылась. Однажды Степан пришел в школу, в очередной раз обменять книгу в библиотеке, молодой учитель, Михаил Сергеевич Пушков, спросил его: «Почему ты не учишься дальше?». Степан объяснил ему причину, по которой он не может продолжать учение.
– Что ни будь придумаем, я завтра зайду к вам, – сказал Михаил Сергеевич.
На следующий день, после занятий он зашел к Артемьевым.
– Галина Тихоновна, хочу помочь вашему сыну с учебой, я буду заниматься с ним вечерами после школьных занятий. Если вы согласны, то мы приступим уже в ближайшее время, – предложил Михаил Сергеевич.
С радостью приняла Галина Тихоновна это предложение, но еще больше обрадовался сам Степан.
– С учебниками я все улажу и уже на следующей неделе, в понедельник вечером, я думаю мы приступим к занятиям.
– Я очень вам благодарна, но…
– Вы не беспокойтесь, – перебил ее Михаил Сергеевич мне за мою работу платить не нужно, я только буду рад помочь Степану, этому умному, способному парню.
Так началась другая, трудная, но интересная для Степана жизнь. Несмотря на то, что ему стало нелегко совмещать работу по хозяйству с учебой, тем не менее, он прилежно посещал вечерние занятия.
Погрузившись во все эти воспоминания, Степан не заметил, как солнце закрыли снежные тучи, крупными хлопьями повалил снег, быстро оказавшуюся под снежным пушистым покровом дорогу, вскоре не стало видно, но опытные лошади уверенно шагали, не сбиваясь с пути. Внезапно начавшийся снег продолжался недолго, вновь сквозь морозную пыль стали пробиваться лучи солнца Дорога пошла в гору, Степан шел позади воза, любуясь пушистым белоснежным покровом.
После спуска с горы, дорога шла по средине широкой пади, вправо и влево виднелись заснеженные елани, вдали темнела гряда скалистых гор. Перед ним расстилалось огромное поле, покрытое снежной пеленой, под солнечными лучами оно сверкало, переливалось, играло разноцветными искрами.
Видимо, только что пересек дорогу небольшой зверек, опытный человек сразу бы определил кто оставил на снегу этот новый след, но Степану это было еще неведомо. Под самой горой совсем близко перебежал дорогу табунок диких коз, которых в этой местности можно было встретить довольно часто, единственной опасностью для них были волки, а их водилось немало. Никто не охотился на зверя, у людей не было оружия, даже охотничьего.
Степан, шагая позади груженых саней, представил себе, как совсем недавно вот так же за возом дров шел его друг детства Миша Жиглов. На «родине» они жили по соседству, с раннего детства они были неразлучны. Отец Миши страдал запоем, который продолжался подолгу, а поэтому Миша рано познал все тяготы деревенской жизни. Он был старшим в семье, а она была большой, шестеро детей мал мала меньше.
В начале января Артемьевым пришло сообщение о страшной трагедии, которая постигла семью Жигловых, Миша трагически погиб, возвращаясь из леса с дровами.
Ранним морозным утром Миша запряг быка в сани и направился в лес. Осенью во время пожара выгорела большая лесная площадь, жителям было разрешено срубать погибшие от пожара деревья. Миша спилил несколько не толстых лесин, порезал их на части и, погрузив на сани, тронулся в обратный путь. По какой-то неведомой причине Миша шел рядом с быком, может быть он часто сворачивал с дороги, хватая клочки сена, которые валялись вдоль пути, или он погонял его. Бог весть. Дорога шла вдоль склона горы, Миша шел с верхней стороны, в какой-то момент ноги у него, видимо, поскользнулись и он упал прямо под сани. Бык не остановился и сани подмяв Мишу наехали прямо на живот, полоз затормозило, воз остановился. Вполне вероятно, Миша стал кричать, бык тронулся, но тут лопнула сначала одна завертка, потом другая и, бык освободившись быстрым ходом направился в деревню.
К вечеру, на окраине поселка люди заметили, что идет бык с ярмом на шее, сразу же определили чей он и привели к Жигловым. Поняв в чем дело, несколько мужиков верхами поскакали в ту сторону откуда должен был приехать Миша с дровами. Издали увидели одинокий воз и никого вокруг. Когда подъехали ближе, то обнаружили страшную картину, Миша лежал под возом, весь снег вокруг его головы был выбит руками до земли. Быстро перевернули воз, освободив уже застывшее мертвое тело подростка. Какая страшная смерть! Трудно представить ту смертельно – мучительную боль, которая разрывала тело юного, красивого, доброго паренька. Это событие потрясло жителей поселка, уже не говоря о убитой горем семье Жигловых, для них это был страшный удар, от которого они никогда не смогут оправиться.
Это воспоминание всегда вызвало слезы у Степана, ведь Миша был его лучшим другом, они были неразлучны, очень часто вместе спали в доме у Степана, или у Миши. Походы на рыбалку, или в лес за ягодами один без другого даже и не помышляли. Миша был авторитетом, его уважали ребята и как-то само по себе определилось, что он стал вожаком среди сверстников. Может быть потому, что он рано узнал жизнь со всеми ее проблемами и уже мог до какой-то степени их решать. И вот жизнь этого хорошего, доброго паренька трагически оборвалась, ему в то время не было и четырнадцати лет.
Степан очнулся от этих воспоминаний только тогда, когда, въезжая в поселок он услышал громкий лай собак из ближайших дворов. Был глубокий вечер, крепчал мороз, с темно голубых небес холодно мерцали первые звездочки, в окнах деревенских изб светились огни, из труб печей вырывались густые клубы дыма, устремляясь в бледно – изумрудную небесную высь.
Сосед сообщил, что Степан отстал, но скоро подъедет. В стяженной тужурке, подпоясанной широким кушаком одиннадцатилетний Игорь стоял у широко раскрытых ворот, поджидая брата. Въехав на просторный двор, Степан подогнал воза с дровами к самой поленнице, выложенной вдоль забора.
– Иди в дом сынок, Игорек распряжет и устроит лошадей – говорит мать, поджидая Степана на крылечке. Разгружать воза будите завтра утром.
В доме было тепло, пышет жаром раскаленная печь, от стоящей на столе керосиновой лампы распространяется яркий свет по всему дому. Сняв полушубок, Степан присел на деревянный стул у обогревателя, на чугунных кружках уже стояла приготовленная пища, от который шел аромат жареного мяса. Вскоре тепло разморило Степана и он почувствовал усталость во всем своем молодом теле. Быстро покончив с ужином, Степан вышел на улицу проверить как устроены лошади, убедившись, что все в порядке, вернулся в дом. Мать расспросила его о поездке, помогал ли ему Митяй, Степан на это ответил:
– Да, он давал мне хорошие советы.
Мать видела, как сын борется со сном и велела ему ложиться в постель, не прошло и пяти минут, как Степан уже спал здоровым крепким сном. Галина Тихоновна молча любовалась спящим сыном.
– Как он сильно похож на отца, – подумала она, – слезы хлынули из ее лучистых глаз.
Казалось, что все это было совсем недавно, когда Галина впервые встретилась со своим будущим мужем, часто вспомнилось это необычное знакомство с ним и эти воспоминания теплом отозвались в ее сердце, ее лицо расцветало в улыбке. Жили они в разных поселках, тем не менее, молодежь в свободное время на какие – либо праздничные торжества ездили друг к другу в гости, оседлав не рабочих молодых лошадей, и часто случалось так, что некоторые из них мчались навстречу своей судьбе. В июле месяце в деревне В-Кули справляли престольный праздник, храм был освящен в честь иконы Казанской Божьей Матери, в этот день, обычно, съезжались жители с ближайших деревень.
Впервые на престольный праздник в этот поселок решил поехать Денис со своими дружками, Семеном и Лукой. Выехали рано, чтобы успеть к церковной службе, остановиться решили у двоюродной сестры Семена, Анны Трухиной. После Богослужения люди еще долго не расходились, каждый встретил среди приехавших, то родственника, то друга, или просто знакомого.
Наши друзья направились вместе с Анной в дом Трухиных. Большой деревянный дом – пятистенка, располагался на верхней улице в конце деревни. В доме никого не было, кроме матери Анны – Евдокии, которая хлопотала на кухне, делая последние приготовления, праздничный стол был почти готов, оставалось расставить тарелки, вилки и ножи, за что принялась Анна. Хозяин дома Павел был приглашен к соседям, где собиралась компания с участием приезжих гостей, покинула молодежь и Евдокия, когда за ней прибежала соседская девчонка.
Вскоре подошло еще несколько человек молодежи и все дружно расположились за большим семейным столом. Анна усердно угощала гостей, подливая в рюмки, парням водку, а девушкам красного вина. За столом становилось шумно и весело, Анна попросили Дениса начать песню, она знала, что у него хороший голос. Песню вначале нестройно подхватили, но быстро «спелись» и полились русские народные песни одна за другой, веселые, порой грустные. Молодежь эти напевы переняла от родителей, без которых у них не проходило ни одно застолье. Родители этими грустными напевами, выражали свою тоску по той далекой, любимой и незабываемой родной стране. До самого вечера веселилась молодежь.
– Пора идти на танцы, – напомнил Семен.
Девушки быстро прибрали со стола и вся компания двинулась в сторону школы, где в просторном зале молодежь устраивала танцы. Из зала уже доносились звуки гармошки. Внутри народу было немного, но скоро зал стал наполняться. Денис, Семен, Лука держались вместе, Анна знакомила их с теми, кого они еще не встречали, приезжих из других деревень было немало. Вот прошли мимо три девушки, даже не взглянув на ребят.
– Анна, – говорит Лука, познакомь меня с той белокурой, красивой девушкой, которая так гордо только что прошла мимо нас.
– Чего ты стесняешься, иди и знакомься сам, ее зовут Галя Рудакова, – ответила Анна.
– Пожалуйста спроси ее желает ли он завести знакомство – настаивал Лука.
– Ну хорошо, от твоего имени сделаю ей предложение познакомиться – сказала Анна.
– Денис, – проводи меня через зал к той красавице, что заворожила твоего друга и я узнаю, желает ли она познакомиться с ним.
– Как – то неудобно, —ответил Денис
Но Анна подхватила его под руку и потянула за собой.
– Галина, – знаешь, что я тебе хочу сказать, с тобой хочет познакомиться молодой человек
– Я не против – бойко ответила девушка.
– Да ни этот, указывая на Дениса, а вот тот чернявый с густой шевелюрой темных волос.
– Ну, я пойду позову Луку – говорит Анна.
– А вы, что не желаете со мной познакомиться? – лукаво взглянув на Дениса, промолвила Галина.
– Да я, знаете, простите, растерялся, – смущенно пробормотал Денис.
– Меня зовут Денис.
– А я, Галя – ответила девушка.
Тут заиграла гармонь.
– Давайте потанцуем – предложила Галя.
И они закружились в танце. Закончился танец, за ним сразу же последовал другой.
– Ваш друг будет в обиде – насмешливо, чуть прищурив глаза, промолвила Галя.
– Будет обидно мне, если я не буду танцевать с вами, – удивляясь своей смелости, ответил Денис.
Они танцевали до самого перерыва, когда гармонист решил передохнуть. Денис поблагодарил Галю и проводил ее к подругам, которые расположились у стены под окном, посматривая в их сторону и весело переговаривались.
– Смотрите, Галя уже нашла себе кавалера, – сказала курносенькая, синеглазая девушка.
– Ничего, наши ребята так его пугнут, что он навсегда забудет дорогу к нам, – смеясь сказала другая.
– С таким парнем и я не прочь потанцевать, уж больно хорош собою, – говорит черноокая подружка Галины.
– Так друзья не поступают – с недовольством в голосе проговорил Лука
– Я первый ее заметил.
– Вот, когда будут дамы приглашать кавалеров, кого она выберет, так и будет – отпарировал Денис.
Когда было объявлено, что приглашают дамы, сердце у Дениса трепетало, заметно волновался и Лука. Гармонист играл вальс, кружились пары, наши приятели одиноко стояли в сторонке, их не приглашали. «Униженные» они вышли на улицу.
– Это точно, мы ей не интересны, – решил Лука.
Денис мучительно старался вспомнить, чем он мог обидеть Галю. И, не находя ответа на вопрос, Денис вернулся в зал.
– Вы куда исчезли, – спросила Анна
– Галя спрашивала, где ты.
– Иди и пригласи ее танцевать. Не долго раздумывая, Денис решительной походкой направился к Галине и пригласил ее на танец. Ему показалось, что она обрадовалась. Они танцевали вместе весь вечер, к концу танцев они уже перешли на «ты».
Когда гармонист объявил последний танец, к Денису, когда он с Галиной о чем-то весело смеялись, подошли два парня, оба явно подвыпившие.
– Ты, это чё к Галке вяжешься, у нее есть парень, Колька Дубов, он сейчас в городе работает, – заявил с недоброй искоркой в глазах один из них, высокий, с коротко подстриженными волосами.
– Нет у меня никакого парня, – ответила ему Галина.
– Мы с Николаем соседи и, просто дружим с детства, – добавила она, заметив вопросительный взгляд Дениса.
– Но, он тебя любит, о чем говорил сам, – подключился второй приятель.
– А вот мне об этом не известно и идите вы, ребята, своей дорогой, – уже сердито сказала Галина.
– Колька наш друг и мы тебя предупредили, хорошо запомни об этом, – пригрозили они Денису.
– А второй раз встречаться с нами тебе не советуем, – продолжал угрожать Денису уже кулаками высокий парень.
– Это, что за ребята и почему такая мне угроза? – спросил Денис.
– У нас в поселке угрожают всем приезжим ребятам, чтобы они не ухаживали за нашими девчатами, – ответила Галя.
– А ты, что испугался их, – с улыбкой спросила она.
– Да нет, – обиженно ответил Денис – я иду провожать тебя, несмотря на грозное предупреждение этих парней, до самого твоего дома.
– Как я вижу, ты смелый парень, а поэтому я не против того, чтобы ты меня в цельности и сохранности доставил до места назначения, – смеясь, говорила Галина.
– За это я ручаюсь.
По пути, домой, их нагнала группа ребят, среди них уже знакомые им парни
– Ну-ка ты, паря, поворачивай оглобли и катись отсюда, иначе ребра поломаем, подступая к Денису, угрожал все тот же высокий, чернявый парень.
– А, что разве нельзя проводить девушку без вашего разрешения.
– Нет, мы чужаков не любим.
– Я вот смотрю, что вы очень храбрые ребята, впятером одного не боитесь, спокойно, даже с некоторой усмешкой, – сказал Денис. Можно же спокойно поговорить, предложил он.
– Нечево языком трепать и чтоб мы тебя возле Галки больше не видели. Мы тебя уже предупреждали, а тебе все неймется, видимо, плохо соображаешь, следующий разговор с тобой будет другим способом. Понятно.
То ли невозмутимый вид Дениса и его спокойные ответы на их угрозы, или же внушительный вид широкоплечего парня, удерживал дебоширов от решительных действий.
– Пошли, Денис, – потянула его за руку Галина. Вслед им еще неслись угрозы, но дальше этого дело не пошло.
– Уж, наверняка, после таких угроз, теперь ты в нашем поселке больше уже и не покажешься? – улыбаясь спросила Галина.
– Их угрозы меня не волнуют, все зависит от тебя, приезжать мне, или нет -ответил Денис. Они договорились о следующей встречи.
Из рассказов старших, Денис знал, что еще «там», на родине, в родном Забайкалье, парни очень не любили, когда из их деревни чужие женихи увозили девчат. Часто девчат отбирали, а женихи возвращались, в лучшем случае с синяками, нередко у лошадей обрезали хвосты. Иногда жених ездил за невестой с группой поддержки, тогда разборки были более жесткие. Но это мало кого останавливало, но, тем не менее, все же чаще в ход пускалась дипломатия.
Дениса угрозы не смущали, он все чаще и чаще стал навещать В-Кули, очень уж по душе пришлась ему Галя и он уже нисколько не сомневался, что окончательно влюблен в эту красивую девушку. У него появились друзья и в деревне его теперь принимали, как своего человека.
В июне Галине исполнилось восемнадцать лет. Её день рождения справляли в тесном кругу друзей. Денис приехал, когда все уже были в сборе.
– А мы, уже думали, что не приедешь, – сказала мать Гали, Вера Петровна.
– Извините, произошла небольшая задержка, – смущенно ответил Денис.
После угощения, еще некоторое время молодежь веселилась, обменивалась новостями, потом разошлись, чтобы встретиться вечером на танцах. Обычно в праздник летними вечерами молодежь собиралась на лужайке, где заливаясь играла гармошка, раздавались одна за другой песни, танцевали пары.
Денис и Галя решили погулять и направились на вершину горы, откуда можно было любоваться на окружающий их мир. Внизу виднелась извилистая голубая лента реки, берега которой местами густо покрывались зарослями мелких деревьев и кустарника. Сама долина представляла из себя темно-зеленое, слегка волнующееся море, украшенное разнообразием цветов. Издалека виднелись голубоватые очертания невысоких гор, сплошной грядой уходящих в даль. В вышине сияло поразительной чистоты и глубины голубое небо, свежий прозрачный воздух тихо колыхал легкий ветерок.



