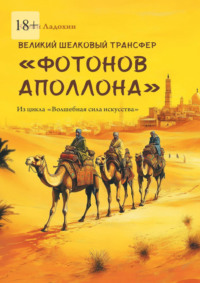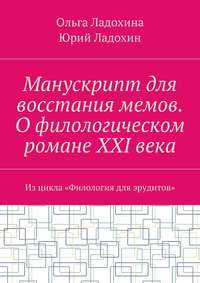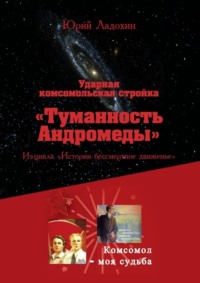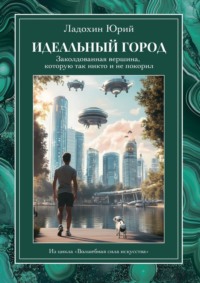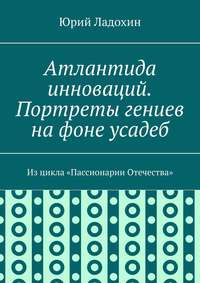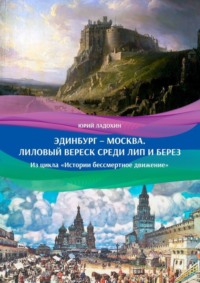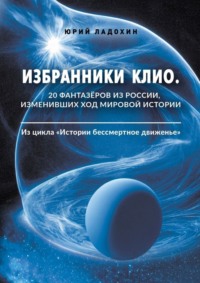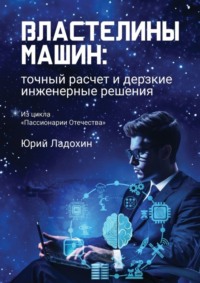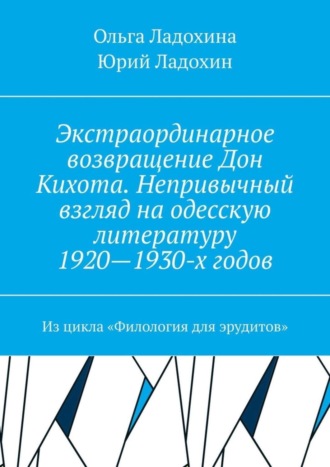
Полная версия
Экстраординарное возвращение Дон Кихота. Непривычный взгляд на одесскую литературу 1920—1930-х годов. Из цикла «Филология для эрудитов»
Небольшое отступление – еще раз к выбору приоритета: Гамлет или Дон Кихот. Мы уже писали о том, что из этих двух архетипов В. Жаботинский определенно сделал выбор в пользу благородного идальго как человека действия. Но так ли все просто? Твердо выбранная цель – создание Еврейского легиона, большинством оппонентов считавшаяся отъявленным сумасбродством, требовала, думается, помимо несгибаемой решительности, все-таки и «гамлетовской» аналитической мысли. Попробуем сопоставить известнейшие фразы из трагедии о принце датском (будут выделяться курсивом) и фрагменты из «Слова о полку…».
– «Много передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом, и дуэль аэропланов в воздухе, и {инвалиды войны с психическими расстройствами, .}, и немецкие налеты на Лондон – солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ… Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю ту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит» [Жаботинский 2012, с. 182]. «Безумье сильных требует надзора» (из трагедии У. Шекспира «Гамлет») gueules cassees фр
– «Мистер Жаботинский, – сказал мне тот анархист после одного особенного бурного митинга, – долго вы еще собираетесь метать горох об стенку? Ничего вы в наших людях не понимаете. Вы им толкуете, что вот это они должны сделать „как евреи“, а вот это „как англичане“, а вот это „как люди“… Болтовня. Мы не евреи. Мы не англичане. Мы не люди, А кто мы? Портные. – Привожу это горькое слово только потому, что в конце концов Ист-Энд за себя постоял. Солдат он нам дал первосортных, смелых и выносливых; даже самая кличка „портной“ – „шнейдер“ – постепенно потом приобрела во всех наших батальонах оттенок почетного прозвища… В последнем счете тот анархист оказался не прав – как, вероятно, всегда и всюду не правы критики масс: в последнем счете. Но тогда, вначале, диагноз его подходил, как перчатка: у этой массы, не знаю по чьей вине (может быть, виноват был жесткий холодок их английского окружения) онемел тот именно нерв, который связывает единицу с суммой, с расой, с краем, человечеством…» [Там же, с. 62 – 63]. «Но вижу я, в вас скорби маловато!» (Там же)
– «Из всех воспоминаний моей жизни этот месяц, вероятно самое тяжелое – хочется даже сказать: отвратительное… Со всех сторон, особенно же со стороны официально-сионистской (жалею, что приходится это сказать, но должен), им нашептывали на ухо, что мы только дурачим себя и публику, что правительство никогда ни за что не согласится на особый полк и что вся затея… кончится подвохом. Со стороны правительства план наш явно не имел никакой поддержки. Ясно, что на такой почве подозрительности и сомнений уже не трудно было шайке хулиганов создать настроение паники, запугивать каждого, кто пытался серьезно вдуматься в наши проекты, что он предатель, что он помогает заманить своих братьев „не в Палестину, а в Верден“» [Там же, с. 88]. «Ты повернул глаза зрачками в душу, // А там повсюду пятна черноты» (Там же)
– «Через два дня после того, как на улицах Ист-Энда, Сого, Стэмфорд-Хила и других отрезков лондонского гетто появилось наше воззвание, Герберт Сэмюэл вызвал меня к себе в министерство внутренних дел. – Мы все вам очень признательны за эту инициативу, – сказал он. – Может ли министерство в чем-то вам помочь?.. Я поблагодарил и отказался. Искренне признаюсь, что я потом горько жалел об этом гордом, но непрактичном ответе. Слишком сильна оказалась во мне старая закваска российского радикализма, привычка смотреть на „начальство“, как на нечто нечистое, от чего порядочному человеку не подобает принимать какую бы то ни было помощь. Я забыл, что в Англии такое отношение к власти неуместно и нелепо» [Там же, с. 86 – 87]. «Как часто нас спасала слепота, // Где дальновидность только подводила» (Там же)
Впрочем, трезвые, а подчас и горькие размышления автора «Слова о полку…» о представителях человеческого сообщества отнюдь не противоречат ироничному, а по иногда и юмористическому взгляду на их деяния. Взять хотя бы подчас отчетливо наблюдаемую неразбериху во взаимодействии между различными частями британской армии: «На полдороге к Эс-Сальту нас остановили, повернули и велели идти назад в долину. У англичан это тоже бывает, и часто: ступай вверх, потом вниз, а для чего – неизвестно. Они, в таких случаях, усмехаясь, цитируют знаменитую строку из Теннисона, из стихотворения о том, как под Севастополем погибло у них ни за что ни про что шестьсот отборных из конной гвардии: строка очень простая – – «кто-то напутал». «Самая английская строка во всей нашей поэзии», – говорит Паттерсон (впрочем, он ирландец) [Там же, с. 177]. Someone has blundered
Опять-таки, прием насмешливой фокусировки может пригодиться и при оценке черт своих соплеменников: «Полковник Паунол, – сказал я, – очень доволен их успехами в строю, в службе и в штыковом бою; а кроме того, все вместе они говорят на четырнадцати языках, и это понадобится. – В жизни не предполагал, – рассмеялся министр, – что есть на свете целых четырнадцать языков. – Рассмеялся и Трумпельдор. Мне при генерале смеяться не полагалось, и я доложил очень серьезно: – Так точно, милорд, есть – а чтобы договориться с евреями, и этого недостаточно» [Там же, с. 101].
Ну, и в этом эпизоде тоже: «Одного из бедуинов я поймал за делом. Кража патронов была строго запрещена; в сущности, я имел право поступить с ним совсем жестоко – но недаром трунили надо мной товарищи в офицерской столовой: „Какой вы солдат? Просто переодетый фельетонист“. Я… я велел отнять у него добычу и дать ему по шее, и отобрал у него осла, и мы посадили на осла усталого нашего „падре“. Потом на ближайшем привале осла формально усыновили, дав ему батальонное имя. Дело в том, что у нас числилось шестьдесят четыре солдата по фамилии Коган, и имена их начинались со всех букв английского алфавита, от „а“ до „зет“. Не было только на букву „икс“. Осла назвали Коган Икс…» [Там же, с. 176]…
Теперь от забавных натуральных ослов – к недалеким упрямцам рода человеческого: «Летом 1919 года состоялся в Петах-Тикве съезд представителей палестинских и американских легионеров, вместе с делегатами от рабочих… Я был на том съезде; ясно предупредил их, что именно теперь наступает важнейшая роль легиона: по всей стране ведется беспримерная погромная агитация, тем более опасная, что она косвенно опирается на известные настроения и в высших, и в низших слоях оккупационного аппарата… Не помогло… Через два месяца после съезда в Петах-Тикве из трех батальонов осталось два, а потом и всего один – палестинцев, которые держались до конца, подавая прошение за прошением, чтобы их не демобилизовали, оставили под ружьем. Но и они быстро таяли. Весной 1919 года у нас было пять тысяч солдат; к весне 1920-го осталось едва четыреста – тогда разыгралась кровавая Пасха в Иерусалиме…» [Там же, с. 209 – 210].
Озверелая толпа и одинокий благородный дон с мечами в руках… Не лежат ли в истоках этой картинки из «Трудно быть богом» братьев Стругацких реальные страшные события, произошедшие на земле Палестины весной в самом начале 20-х годов двадцатого столетия? Похоже, не правда ли?: «На Пасху 1920 г., когда толпа арабов учинила в Иерусалиме погром, Жаботинский пытался во главе одного из отрядов пробиться в Старый город для защиты живших там евреев. Жаботинского и его соратников арестовали и обвинили в нарушении общественного порядка. Жаботинский был приговорен английским военным судом к 15 годам каторги и заключен в крепость Акко близ Хайфы. Несправедливый приговор вызвал протесты во всем мире и вскоре был отменен» (из статьи Марины Аграновской «Владимир Жаботинский: последний рыцарь Европы»).
Инстинкт самосохранения, присущий, видимо, каждому из нас, преодолевается, если необходимо, у всех по-разному. Но если так, пожалуй, только , пусть утопической, пусть безнадежной, но : «Мир закис в мещанской инертности. Интеллигенты всех стран и народов в один голос молят у неба одной благодати: дела, применения для энергии, рвущейся наружу. Это есть тоска по работе. Она стала для всех теперь лозунгом. Только для интеллигента-еврея тот же лозунг звучит иначе: тоска о патриотизме. Но нахлебник не может быть патриотом: нужна родина. Оттого наша тоска по патриотизму так мощно превратилась в тоску по родине… И нам, народу, который после колоссального из исторических путей в последний раз стоит теперь над пропастью; которому завтра, если не найдется убежища, грозит вырождение, послезавтра – исчезновение с лица земли и который уже сегодня начинает гнушаться самим собою и себя самого оплевывать – нам нет третьего выбора: или мечта… или ничто» радикально,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.