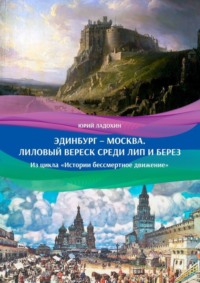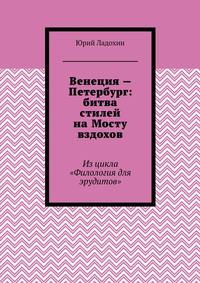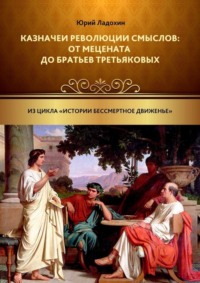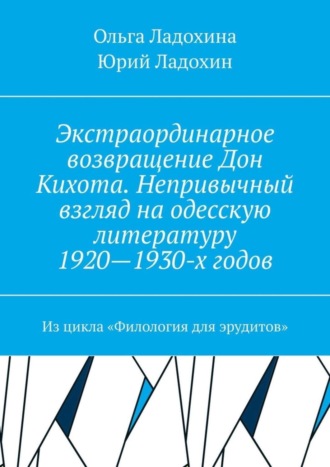
Полная версия
Экстраординарное возвращение Дон Кихота. Непривычный взгляд на одесскую литературу 1920—1930-х годов. Из цикла «Филология для эрудитов»
Немилосердных на страницах романа «Зависть» не так уж много (все-таки нэпмановская Москва, а не поля сражений на гражданской). Видимо, поэтому Юрий Олеша доспехи Дон Кихота решил примерить не на себя, но зато, как нам думается, на двух персонажей сразу. Но, пожалуй, Николай Кавалеров, главный «завистник» повествования, до благородного идальго, что называется, «не докрутил»; а Иван Бабичев (старший брат Андрея Бабичева) – харизматичный организатор от чрезмерного усилия, видимо, «сорвал резьбу». кентавров заговора чувств
Образованный, тонко чувствующий, не лишенный возвышенных порывов, Кавалеров из всей палитры «живописания» собственной судьбы отдал предпочтение, только одной, будь она неладна, черной краске ревности к чужому успеху: «Замечательный человек, Андрей Бабичев, член общества политкаторжан, правитель, считает сегодняшний свой день праздником. Только потому, что ему показали колбасу нового сорта… Меня раздирает злоба. Он – правитель, коммунист, он строит новый мир. А слава в этом мире вспыхивает оттого, что из рук колбасника вышел новый сорт колбасы. Я не понимаю этой славы, что же значит это? Не о такой славе говорили мне жизнеописания, памятники, история… Значит природа славы изменилась?» [Олеша 2014, с. 187].
Обидно вдвойне, что покрывающая коростой душу зависть взяла верх над человеком с воображением, сведущим в вопросах искусства: «Новый Тьеполо! Спеши сюда! Вот для тебя пирующие персонажи… Они сидят под яркой стосвечовой лампой вокруг стола, оживленно беседуют. Пиши их, новый Тьеполо, пиши „Пир у хозяйственника“! Я вижу полотно твое в музее. Я вижу посетителей, стоящих перед картиной твоей. Они ломают голову, они не знают, о чем с таким вдохновением говорит написанный тобою тучный гигант в синих подтяжках… На вилке он держит кружок колбасы…» [Там же, с. 188].
В «прицеле» Дон Кихота – сказочные великаны, принявшие мирный вид огромных ветряных мельниц; мишень взвинченного Кавалерова – размером на порядок меньше. А «безумство храбрых» сменяется, как можно заметить, нешуточной степенью внутреннего дисбаланса: «Шута вы хотели сделать из меня, – я стал вашим врагом. „Против кого ты воюешь, негодяй?“ – крикнули вы вашему брату. Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, – не знаю. Я воюю против вас: против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет ему благополучно» [Там же, с. 198] … Итого – Дон Кихот несбывшийся.
А теперь – об идальго воплощенном, но с какой-то, похоже, раблезианской избыточностью. Если облагораживать мир, то чем-то диковинным и поражающим воображение. Можно начать, ни много ни мало, с генератора снов: «С детства Иван удивлял семью и знакомых. Двенадцатилетним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого – по заказу – любой сон» [Там же, с. 209]. Правда, сновидение о битве Цезаря с Помпеем при Фарсале увидел не заказчик – отец, а горничная Фрося, но милостиво спишем это на небольшие погрешности в настройках.
Спустя несколько месяцев юный Иван Бабичев поведал родным о новой своей новации: «Будто изобрел он особый мыльный состав и особую трубочку, пользуясь которыми можно выпустить удивительный мыльный пузырь. Пузырь этот будет в полете увеличиваться, достигая поочередно размеров елочной игрушки, мяча, затем шара с дачной клумбы и дальше, дальше, вплоть до объема аэростата, – и тогда лопнет, пролившись над городом коротким золотым дождем» [Там же, с. 210].
И, представьте себе, смелые фантазии гимназиста действительно, в один из вечеров воплотились в завораживающее зрелище: «И в исходе дня, когда отец Бабичева пил на балконе чай, вдруг где-то очень далеко, над самым задним, тающим, стекловидным, мелко и желто поблескивающим в лучах заходящего солнца планом его зрения появился большой оранжевый шар. Он медленно плыл, пересекая план по косой линии» [Там же, с. 211]. Впрочем, оказалось, что движущей силой полета оказались не выдающиеся способности юного естествоиспытателя, а элементарная информированность: из расклеенных по городу афиш он узнал, что в тот день над городом должен был пролететь известный аэронавт Эрнест Витолло.
Детские забеги Ивана за фата-морганой удачи уже в зрелые годы закономерно, пожалуй, завершились для выпускника механического отделения Петербургского Политехнического института образом жизни, сильно напоминающим времяпровождение представителей парижской художественной богемы начала двадцатого столетия: «В тот год, когда строился „Четвертак“, Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера – просто позорным. Представьте, в пивных рисовал он портреты с желающих, сочинял экспромты на заданные темы, определял характер по линиям руки, демонстрировал силу своей памяти, повторяя пятьсот любых прочитанных ему без перерыва слов. Иногда вынимал из-за пазухи колоду карт, мгновенно приобретая сходство с шулером, и показывал фокусы» [Там же, с. 214].
Однако было бы опрометчивым считать Ивана Бабичева человеком опустившимся, плывущим по океану жизни, что говориться, без руля и ветрил. Перед нами – карбонарий 1920-х со своей мировоззренческой платформой, предводитель так называемого «заговора чувств»: «Я хотел бы объединить вокруг себя некую труппу… видите ли, можно допустить, что старинные чувства были прекрасны. Примеры великой любви, скажем, к женщине или отечеству. Мало ли что! Согласитесь, кое-что из воспоминаний этих волнует и до сих пор… Я хочу встряхнуть сердце перегоревшей эпохи. Лампу-сердце, чтобы обломки соприкоснулись… и вызвать мгновенный прекрасный блеск… я хочу найти представителей оттуда, из того, что мы называем старым миром. Те чувства я имею в виду: ревность, любовь к женщине, честолюбие…» [Там же, с. 220 – 221].
Адепту бурных страстей и трогательных сантиментов в плотной пелене наступающего практицизма все труднее найти своих героев: «Я слушаю чужой разговор. О бритве говорят. О безумце, перерезавшем себе горло. Тут же порхает женское имя. Он не умер, безумец, горло ему зашили, – и снова полоснул он по тому же месту. Кто ж он? Покажите его, он нужен мне, я ищу его. И ее ищу. Ее, демоническую женщину, и его, трагического любовника. Но где его искать? В больнице Склифосовского? А ее? Кто она? Конторщица? Нэпманша?.. героев нет…» [Там же, с. 221].
Путь Ивана тернист, но не лишен азарта и упований на благосклонность фортуны: «… я заглядываю в чужие окна, поднимаюсь по чужим лестницам. Порой бегу за чужой улыбкой, вприпрыжку, как за бабочкой бежит натуралист! Мне хочется крикнуть: «Остановитесь! Чем цветет тот куст, откуда вылетел непрочный и опрометчивый мотылек вашей улыбки? Какого чувства этот куст? Розовый шиповник грусти или смородина мелкого тщеславия? Остановитесь! Вы нужны мне…«» [Там же, с. 221 – 222].
Казалось бы, вот он – беззаветный защитник уходящей эмоциональности, эталонный Дон Кихот начала двадцатого столетия. Но, как и с генератором снов, выверенный расчет будет подмят плотным облаком бурлящего воображения. Иначе чем объяснить, что для реализации своих благородных намерений Иван Бабичев проектирует создание поразительного по своим качествам, но невозможного для того уровня развития техники аппарата: «Машина моя – это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее… Машина – подумайте – идол их, машина… и вдруг… И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой!.. она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, и старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны… Я сделал это. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. И я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви и отчаяния, – имя Офелии…» [Там же, с. 234]…
То есть, прямо-таки миловидный андроид с начатками искусственного интеллекта? – и это за сорок один год до создания японской компанией первого промышленного робота! Позволим себе краткий вывод: несмотря на сонм возвышенных идей и интересных новаций, Иван Бабичев, вернее всего, – шарж на Дон Кихота, пусть не язвительный, скорее – сочувствующий, но шарж. Kawasaki
Валентин Катаев, создатель романа «Время, вперед!» о строительстве Магнитогорского металлургического комбината, видимо, чтобы избежать весьма заметного в «Зависти» эффекта «недолёт – перелёт», решил, как нам представляется, всю ответственность по настройке оптического прицела для надежного попадания в образ современного Дон Кихота поделить между главным героем – инженером Маргулиесом и собой – автором. Несколько неожиданно, не правда ли?
Для пояснения попробуем сделать небольшой экскурс во времена, отстоящие от нас на пять столетий: «В середине 16 века в Западной Европе возникла новая идеология. Ко времени, когда Сервантес сел за роман, она уже распространилась на многие страны. Ее основные принципы гласят: Бог настолько всевластен, что где-то там, в бесконечности, за бесконечное количество лет до твоего рождения предопределил тебя к раю или аду. Сколько бы ты не молился – зря: куда предопределен, туда и направишься. Столяр ты или римский папа – без разницы. Но выход есть, он – в твоем стремлении к совершенству, в сердечном отношении к собственному труду, к его качеству, ибо они – земное воплощение Троицы. Лишь благодаря наличию этих трех основ в себе, ты можешь предполагать, что ждет тебя на исходе: смола кипящая или солнечный луг» (из статьи Олега Малашенко «Сервантес – путь к совершенству»).
Но как это достаточно смелое утверждение «работает» в отношении повествования о странствиях благородного кабальеро? – продолжим цитирование автора публикации: «Некто Дон Кихот поставил на себе эксперимент: покинул родной скотный двор и совершил череду деяний, руководствуясь „юридическими“ нормами Кодекса рыцарской чести. Свою главную цель он декларирует в романе так: хочу добиться, чтобы обо мне написали такой рыцарский роман, который превзошел бы все рыцарские романы, которые написаны в прошлом и будут написаны в будущем. Главная цель его стремянного, бывшего „председателя сельсовета“ Санчо Пансо, – стать лучшим в мире губернатором. Для ее достижения он опирается на „юридические“ нормы Кодекса обыденной народной мудрости, т.е. пословиц и поговорок. Главная цель Сервантеса (писатель также декларирует ее в романе): хочу написать лучший рыцарский роман из всех, написанных до меня, и из всех, которые будут написаны после» (Там же).
Что же это получается? – прямо азартное рыцарское соревнование времен феодализма за переходящее знамя, ой, извините, заветную подвязку Прекрасной Дамы с надписью («Бесконечная любовь», .). – значит, видимо, только для тех, кто не ведет счет времени, или, во всяком случае, находится с ним в особых отношениях. Как, например, этот необычный персонаж: «Инженер без карманных часов! Он не был небрежен или рассеян. Наоборот, Маргулиес был точен, аккуратен, хорошо организован, имел прекрасную память. И все же у него никогда не было карманных часов. Они у него как-то „не держались“… Он узнавал время по множеству мельчайших признаков, рассеянных вокруг него в этом громадном движущемся мире новостройки. Время не было для него понятием отвлеченным. Время было числом оборотов барабана и шкива; подъемом ковша; концом или началом смены; прочностью бетона; свистком механизма, открывающейся дверью столовой; сосредоточенным лбом хронометражистки…» [Катаев 1983, с. 427]. L’amour infini фр Бесконечная
Герой, который ради достижения совершенства в своем строительном деле, ради перекрытия феноменального рекорда харьковских бетонщиков (306 замесов в смену) готов на полную концентрацию сил и мобилизацию профессиональных навыков: «Моргулиес был неузнаваем. Куда делись его вялость, нерешительность, шепелявость! Он был сдержанно весел, легок и точен в движениях, общителен. Совсем другой человек. Он хлопнул себя по карману, вытащил исписанные карандашом листки и разложил их на лавке. – Ну-с, дорогие товарищи. Десять минут внимания. Мотайте на ус. Небольшая статейка, называется „Ускорить изготовление и дать высокое качество бетона“. Из номера от сегодняшнего числа газеты „За индустриализацию“» [Там же, с. 378 – 379].
Как и прославленный идальго, инженер участка номер шесть Магнитостроя ради благой цели не боится действовать вопреки традиции, преодолевая вязкие коллоидные смеси обыденности и равнодушия: «Налбандов желчно смотрел поверх плотины вдоль озера. Здесь все напоминало ему о Маргулиесе. Плотину строил Маргулиес. Это он рискнул в сорокаградусные морозы применить кладку подогретого бетона. Тогда Налбандов считал, что это технически недопустимо. Это шло вразрез с академическими традициями бетонной кладки. Маргулиес осмелился опрокинуть эти традиции. Налбандов ссылался на науку. Маргулиес утверждал, что науку надо рассматривать диалектически» [Там же, с. 396 – 397].
А недюжинная, взрывная энергия мечты? Разве не из нее Дон Кихот черпал свои силы для многочисленных рыцарских подвигов? Маргулиес, говоря о составляющих быстроты строительства, называет эту энергию другим словом, но без нее никак не оторваться от земной тверди: «Маргулиес сдержанно провел по бумаге острием карандаша тонкую прямую черту. – Она складывается из рационализации процесса подвоза инертных материалов – раз, из правильной расстановки людей – два, и, наконец, из… – Ему очень трудно было произнести это слово, но все же он произнес без паузы: – и, наконец, из энтузиазма бригады. – Он произнес это слишком патетическое и газетное слово „энтузиазм“ с такой серьезной и деловой простотой, как если бы он говорил об улучшении питания или о переводе на сдельщину» [Там же, с. 442 – 443].
У инженера Маргулиеса особые взаимоотношения со временем, у автора «Время, вперед!» – с силами стихии, преображенные писателем в зримые, впечатляющие метафоры. Это и сильнейший ветер, рождающий степные бураны: «Четыре ветра – западный, южный, восточный и северный – соединялись снаружи с тем, чтобы воевать с человеком. Они подымали чудовищные пылевые бураны. Косые башни смерчей неслись, закрывая солнце. Они были густые и рыжие, будто свалянные из верблюжьей шерсти. Копоть затмения крыла землю. Вихрь сталкивал автомашины с поездами, срывал палатки, слепил, жег, шатал опалубки и стальные конструкции» [Там же, с. 245].
Тут же и неистовое солнце, действующее заодно с ураганом: «Солнце входило и выходило из белых, страшно быстрых облаков. Сила света ежеминутно менялась. Мир то удалялся в тень, то подходил к самым глазам во всех своих огромных и ослепительных подробностях. Менялась ежеминутно температура. Солнце в облако – ветер тепел, душен. Солнце из облака – ветер горяч, жгуч, резок» [Там же, с. 295]. К ним же – порождаемая буранами пыль, заполняющая все пространство над строительной площадкой: «Они с работы возвращались в барак, как с фронта в тыл. Они пропадали в хаосе черной пыли, вывороченной земли, нагроможденных материалов. Они вдруг появились во весь рост, с песней и знаменем, на свежем гребне новой насыпи» [Там же, с. 266].
Кому-то сравнение рабочих будней Магнитостроя с боевыми действиями может показаться натянутой гиперболой. Да, возможно, в тексте романа и есть элементы излишней патетики. Но даже поэт-акмеист Георгий Адамович, имевший репутацию «первого критика эмиграции» и едкого рецензента, отмечал несомненный уровень мастерства В. Катаева в описании трудового энтузиазма участников пятилетки индустриализации: «… для Катаева бетон – это как бы некое божество, требующее жертв… Катаевские рабочие борются за строительство, как рыцари шли в крестовые походы: дойти в Иерусалим – и умереть; побить мировой рекорд по бетону – и как бы раствориться в радостном трепете…» [см. Шаргунов 2017, с. 286].
Однако не спешите присваивать будущему автору романа «Алмазный мой венец» знак качества по разряду В недрах оптимистичной каллиграфии современника авторов «индустриальных» романов Леонида Леонова («Соть»), Федора Гладкова («Энергия»), Мариэтты Шагинян («Гидроцентраль») при пристальном взгляде можно увидеть немало стилистических сюрпризов и сатиричных выпадов, сравнимых, пожалуй, с разящей молниеносностью копья Дон Кихота. писатель-соцреалист.
Чего стоит, например, скрытые аллюзии, содержащиеся в названии романа и имени-отчестве основного персонажа повествования: «Катаев не зря так настойчиво подчеркивает, откуда взята строчка, давшая имя роману «Время, вперед!». Потому что оно обретает большую, как сказал бы артиллерист Катаев, бризантную силу в сочетании с именем-отчеством главного героя книги инженера Маргулиеса – Давид Львович. Ведь Лев Давидович (Троцкий) долго издавал журнал «Вперед». Сейчас-то об этом не помнят, а тогда помнили не просто хорошо. Но наизусть знали… Отсылка – и это в начале 30-х, когда борьба с Троцким и троцкистами выходила на новый виток, – столь явная, вызывает изумление. Какая-то потрясающая, немыслимая смелость, да просто наглость, именно то, что Мандельштам называл в Катаеве «настоящим бандитским шиком»! Риск подставиться под статью-донос с условным названием «Давид Львович – гнусный главарь троцкистских «время-впередовцев» столь высок, что в злой умысел Катаева не поверил никто, вплоть до высочайшего цензора с трубкой» (из статьи Олега Кудрина «Время, вперед, к Апокалипсису!»).
Казалось бы, неожиданный эмоциональный захлёст резкого в суждениях художника слова… Ничуть: «Но это не бессмысленная лихость, здесь глубокий, точный подтекст. Троцкий во времена „левой оппозиции“ был певцом мобилизационной „сверхиндустриализации“ (за счет ограбления крестьянства). Что, по сути, являлось возвратом к его же изобретениям эпохи военного коммунизма – „хозяйственный фронт“, „трудовые армии“… Тем самым Катаев показывает, что якобы искореняя Троцкого, троцкизм, Сталин на самом деле реализовывает, но под другой вывеской, его идеи. Что сталинская индустриализация ничем не отличается от троцкистского авантюризма, подстегивания истории. И в таком контексте приведенные автором развернутые цитаты из речи товарища Сталина на первой Всероссийской конференции работников социалистической промышленности „Задержать темпы – значит отстать!“ (1931) выглядят не столько хвалебно, сколько разоблачительно» (Там же).
Но автор романа остро реагирует не только на сверхскоростные темпы возведения заводов и фабрик. Словно предвидя вызывающе эффектный блеск пиар-индустрии эпохи кристаллов Сваровски, писатель пророчески раскрывает ее малопривлекательные родовые черты: «Надо делать – имя, имя, имя. Имя должно печататься в газетах, упоминаться в отчетах, оспариваться, повторяться на митингах и диспутах. Это так просто! Для этого только нужно быть на техническом уровне времени. Пускай этот уровень низок, элементарен. Пусть он в тысячу раз ниже уровня Европы и Америки, хотя и кажется выше. Эпоха требует авантюризма, и надо быть авантюристом» [Катаев 1983, с. 495].
Соблазнительной страсти к саморекламе писатель по-донкихотски пылко противопоставляет благородную миссию скрупулезного историографа нарождающейся советской цивилизации: «И разве бетономешалка системы Егера, на которой ударные бригады пролетарской молодежи ставили мировые рекорды, менее достойна сохраниться в памяти потомков, чем ржавый плуг гильотины, который видел я в одном из сумрачных казематов Консьержери? И разве футболка ударника, платочек и тапочки комсомолки, переходящее знамя ударной бригады, детский плакат с черепахой или с паровозом и рваные брезентовые штаны не дороже для нас в тысячи и тысячи раз коричневого фрака Дантона, опрокинутого стула Демулена, фригийского колпака, ордера на арест, подписанного голубой рукой Робеспьера…» [Там же, с. 532].
Скажете: несколько напоминает пропагандистский спич мастера из цеха «инженеров человеческих душ». Но возможная ироничная оценка опрокидывается реальными фактами из биографии В. Катаева: «Он не повел себя, как Демьян Бедный, хотя мог дальше катиться под его крылом. От Магнитки можно было отделаться неделей, ну даже месяцем наблюдений… А вот на год с головой уйти в серый бетон – как это не похоже на лирика и эстета! На год лишить себя столичных увеселений и повсеместных заработков! И одновременно как это на него похоже, неунывающе-волевого, вымуштрованного Гражданской войной и способного круто менять жизнь» [Шаргунов 2017, с. 288].
Итак, конец 1920-х, самое начало 1930-х… Нежданное и столь ожидаемое возвращение Дон Кихота в произведениях четырех знаменитых писателей родом из вольного города у самого Черного моря: В. Жаботинского, И. Бабеля, Ю. Олеши и В. Катаева.
Для тех, кто как-то сомневается в самой возможности такого незаурядного камбэка – полные надежды и жизнеутверждающего вызова строки человека, летом 1941 года ушедшего добровольцем на фронт:
Так что же, в новый поход, вместе с сокрушителем мельниц-великанов?.. Вперед, вперед, вперед…
Туманны утренние зори,Плывет сентябрь по облакам;Какие сны на синем мореПриснятся темным рыбакам?Темна и гибельна стихия,Но знает кормчий наш седой,Что ходят по морю святыеИ носят звезды над водой. (из стихотворения одесского поэта Семена Кесельмана «Святой Николай»). Кто говорит, что умер Дон Кихот?Вы этому, пожалуйста, не верьте:Он не подвластен времени и смерти,Он в новый собирается поход.Пусть жизнь его невзгодами полна —Он носит раны, словно ордена! (из стихотворения Юлии Друниной «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..»)Глава 2. «И нас повел вперед и на восток, // И дивно пел о жизни, полной света» (В. Жаботинский: жизнь как подвиг)
2.1. «… параллельность прямых // Листопадом нарушена – значит так надо» (предвестники одесских кабальерос)
Однажды одесский поэт Ольга Ильницкая, видимо, сама того не желая, вступила в заочную дискуссию с математиком Николаем Лобачевским, конечно, не на академическом паркете параллелепипедов и параллелограмм, а на привычном поле гекзаметров и хореев:
Тогда каким же фактором нарушена параллельность власти и благородства, алчности и нестяжательства, панического страха за свою жизнь и безрассудной смелости. А нельзя ли предположить, что имя этому «уполномоченному» по геометрическим (и не только) отклонениям от литой традиционности наших представлений – рассматриваемое нами донкихотство?
Ну, какое, казалось бы, было дело известному одесскому журналисту второй половины девятнадцатого столетия Семену Герцо-Виноградскому до «проделок» местных чиновников. Есть талант, есть свой, неповторимый стиль, пиши и радуйся жизни… Между тем именно у него искали защиты не самые благополучные жители припортового города. Проработав более четверти века в различных периодических городских изданиях, таких как «Одесский вестник», «Новороссийский телеграф», «Одесские новости», сатирический журнал «Пчелка», Барон Икс (так он подписывал свои материалы) написал множество фельетонов, едко высмеивающих коррупцию и произвол власть имущих. Бескомпромиссные статьи «Дон Кихота одесской журналистики», как его уважительно называли коллеги, были для газет тем «основным блюдом», которое придавало номеру необходимую перчинку и остроту. ,
В 1870-х Герцо-Виноградский стал известен не только на юге России, но и в столицах. Как писал популярный одесский публицист Абрам Кауфман, «мало было подобных ему: легкость пера, редкое остроумие, язвительность делали то, что Барон Икс мог или поставить на пьедестал, или убить и лишить гражданства. Одни его боялись, другие раболепствовали, многие ненавидели…» Общественный темперамент прославленного фельетониста вполне логично привел его в революционное движение. Он был обвинен в связях с народниками, выслан из Одессы и помещен на несколько месяцев в Мценскую тюрьму. В 1881 году С. Герцо-Виноградский был освобожден, вернулся в родной город и продолжил журналистскую деятельность. (вот она – «четвертая власть»! ).
Если обличительные статьи Барона Икса вызывали ненависть к нему властей и «прикормленной» части местной интеллигенции (реакционный историограф Новороссии А. Скальковский, скажем, называл его ни много ни мало как «исчадьем ада, порожденным на гибель славного края»), то для читающей молодежи Герцо-Виноградский был настоящим кумиром («Иеремией развратной Ниневии, города, где все продается и все покупается…» называл страстного публициста Стас Дорошевич). Примечательно, что на праздновании 25-летнего юбилея журналистской деятельности С. Герцо-Виноградского звучали стихи, в которых, похоже, отразилась вся суть его азартной и благородной натуры: «Рыцарь дела, рыцарь слова и борец за идеал! // Много честного, святого в четверть века ты создал».
От журналистики – к покорителям неба. Вроде бы честолюбие участника состязания, а к ней и спортивная злость и великодушие уверенного в себе человека существуют в параллельных мирах. Известный одесский авиатор Сергей Уточкин во время авиаперелета из одной столицы в другую в июле 1911 года доказал обратное. Он первым стартовал на оснащенном для дальних перелетов самолете «Блерио» с Комендантского аэродрома в северной столице. До Новгорода у летчика проблем не было, но в десяти километрах от города стал «чихать» мотор. Пришлось приземляться в пригороде и делать срочный ремонт. На следующий день Уточкин продолжил полет, однако тут на пути авиатора встала непогода: сильный ветер бросил моноплан вниз. Аварийную жесткую посадку пришлось делать в двадцати пяти километрах от Крестцов, у деревни Вины. Самолет был разбит и уже не смог принимать участия в состязании…