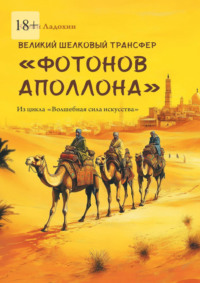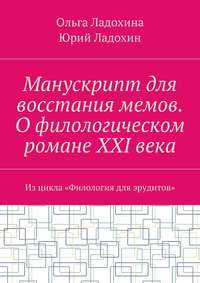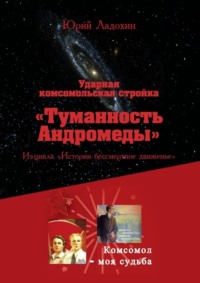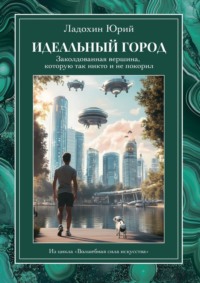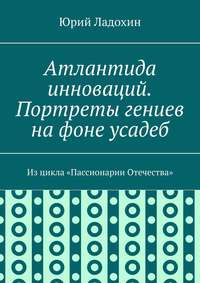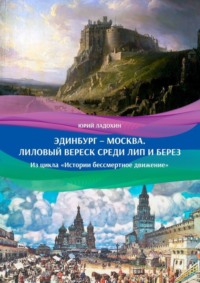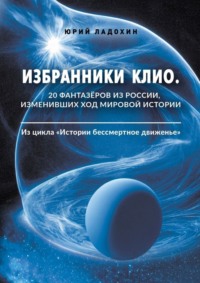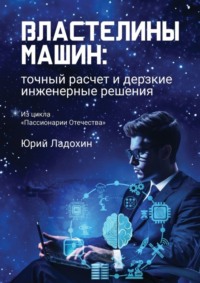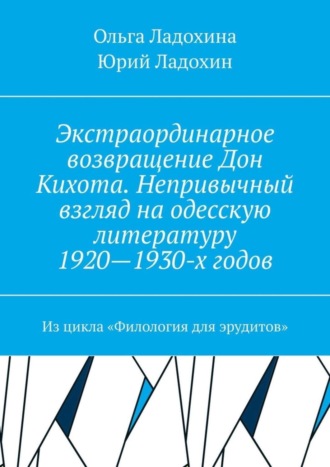
Полная версия
Экстраординарное возвращение Дон Кихота. Непривычный взгляд на одесскую литературу 1920—1930-х годов. Из цикла «Филология для эрудитов»
Но именно в этих обстоятельства раскрылись самые лучшие человеческие качества прославленного одесского авиатора: «… во время последнего несчастного перелета (Петербург – Москва) показал Уточкин с великолепной стороны свое открытое, правдивое и доброе сердце. Тогда – помните? – один из авиаторов, счастливо упавший, но поломавший аппарат, отказал севшему с ним рядом товарищу в бензине и масле: „Не мне – так никому“. Уточкин, находясь в аналогичном положении, не только отдал Васильеву свой запас, но сам, едва передвигавшийся от последствий жестокого падения, нашел в себе достаточно мужества и терпения, чтобы пустить в ход пропеллер Васильевского аэроплана» (из очерка Александра Куприна «Уточкин»).
От авиационного спорта – разворот на 180 градусов, в насыщенную дискуссиями сферу литературной критики. Традиционность, всегдашний учет мнения большинства и спорные гипотезы мыслителя-индивидуалиста, пожалуй, тоже практически всегда движутся параллельными курсами. И пересекаются лишь тогда, когда накал эмоций и интеллектуального напряжения начинает зашкаливать. Выйти с острым пером исследователя в неравный бой против циклопически устойчивых ветряков классикализма – вполне донкихотская черта литературного критика, выпускника одесской Ришельевской гимназии Юлия Айхенвальда. В 1913 году литературовед, исповедывающий метод «имманентной» критики, публикует очерк о В. Белинском, в котором «изображает „неистового Виссариона“ человеком без сердцевины, вечным недорослем, воспламеняющимся чужими идеями, мнениями и не способным к самопознанию, а потому и к подлинному пониманию других. А для значительной части интеллигенции, в начале ХХ века, Белинский оставался идолом и идеалом» (из статьи Евгения Говсиевича «Об Айхенвальде»).
Ставивший парадоксальное мышление и сомнения в истине на первое место среди черт исследователя, Ю. Айхенвальд не принял идеалы Октябрьской революции 1917 года с ее отрицанием эстетического созерцания и насаждением твердокаменного материализма. Несмотря на посулы и запугивания, он «не подписывал „подметных“ писем, когда к нему обращались сотрудники ЧК. Айхенвальд, один из немногих, смело откликнулся в печати на убийство Гумилёва. Это было последней каплей терпения властей. Троцкий ответил Айхенвальду статьёй-угрозой под заголовком „Диктатура, где твой хлыст?“. Айхенвальда арестовали, отвели на Лубянку. Шёл июнь 1922 г. Через 2 месяца вместе с Бердяевым, Франком и др. он был выслан за границу на „философском пароходе“» (Там же).
И это только несколько лаконичных портретов одесситов, которые, словно подхватив выпавшее из рук слабеющего Дон Кихота копье, вышли на поединок с алчностью, косностью и непринужденно проникающим во все поры человеческого сообщества ледяным равнодушием. Но есть одна особенность. Сражения с внешними врагами, как известно, придают мужчинам авторитета и почета. Награды и именное оружие – если ты отличился, к примеру, в битве с войсками Юлия Цезаря, Карла Великого или Наполеона Бонапарта. А если враг затерялся среди толпы, если это твой, к примеру, сосед (крахобор мельник, скупердяй торговец, хищный ростовщик )? – тогда, похоже, жди издёвок и глумлений: et cetera
Еще хуже, пожалуй, когда сподвижники считают, что время реализации твоих идей еще не пришло, расценивая твои «неуместные» действия как благородную позу и чудачество интеллигента-книжника. Именно с таким ледяным душем предубеждений, пожалуй, приходилось сталкиваться на протяжении всей жизни герою следующей части нашей книги.
Поперёк листопада ложится мой путь,Вдоль гусиного, мелкого ломкого шага.Если был кто со мною – отстал отдохнуть,Если шёл параллельно – то так ему надо:Обомлеть, столбенея от истин сквозных,Обалдеть от роскошного лисьего взгляда.Подойду и скажу: параллельность прямыхЛистопадом нарушена – значит так надо (из стихотворения «Поперёк листопада…») Аплодируя, как зритель,Жирный лавочник смеется;На крыльце своем трактирщикВесь от хохота трясется.И почтенный патер смотрит,Изумлением объятый,И громит безумье векаОн латинскою цитатой.Из окна глядит цирюльник,Он прервал свою работу,И с восторгом машет бритвой,И кричит он Дон Кихоту:«Благороднейший из смертных,Я желаю вам успеха!..»И не в силах кончить фразы,Задыхается от смеха (из стихотворения Дмитрия Мережковского «Дон Кихот»).2.2. «Копье мое, копье мое, копье // Имущество, могущество мое…» (последний рыцарь Европы)
Имя нашего героя – Владимир Евгеньевич (Зеэв-Вольф Евнович) Жаботинский. Уроженец Одессы (1880), блестящий журналист (с 16 лет стал публиковаться в газете «Одесский листок»), потрясающий поэт и переводчик (автор одного из лучших русских переводов «Ворона» Эдгара По), тонкий писатель (романы «Самсон назорей», «Пятеро», мемуары «Повесть моих дней» и «Слово о полку») и, ко всему этому, лидер правого сионизма (идеолог движения сионистов-ревизионистов и организаций «Иргун» и «Бейтар»).
А как насчет ледяного душа недоверия и скептицизма? – всего этого было полной чашей. Многие со снисходительной усмешкой, а некоторые – и с откровенным испугом отнеслись к тому, что двадцатидвухлетний юноша из интеллигентной семьи (его отец был служащим Российского общества мореходства и торговли) перед Пасхой 1903 года стал инициатором организации первого в России отряда еврейской самообороны. Ожидавшийся погром, правда, произошел не в Одессе, а в Кишиневе (убито 50 человек, искалечено около 600). Понимая, что одними кулаками и палками беспредел не остановить, В. Жаботинский в августе того же года принял участие в 6-м сионистском конгрессе в Базеле, в начале 1904 года вошел в состав редколлегии нового сионистского журнала на русском языке «Еврейская жизнь», а в 1911 году организовал издательство «Тургман» («Переводчик»), в котором печатались книги мировой классики в переводах на иврит.
И уж совсем никто, похоже, не ожидал от гражданского лица, молодого талантливого журналиста в год начала Первой мировой войны невероятного и дерзкого до безумия предложения о сформировании в составе сил Антанты (конкретно – британских войск), еврейского воинского контингента который принял бы участие в освобождении Палестины и стал бы в дальнейшем костяком организации там еврейского государства.
Как собственно всегда в жизни, по решимости храбрых – шквальный и безжалостный огонь осторожных. Вот как об этом вспоминает первый президент государства Израиль Хаим Вейцман: «Жаботинский явился ко мне, и его идея мне понравилась. Я решил быть помощником ему в этом деле, несмотря на сопротивление, которое было почти всеобщим. Невозможно описать все трудности и разочарования, выпавшие на долю Жаботинского. Не знаю, кто еще, кроме него, мог бы это преодолеть. Его убежденность, вытекающая из его преданности идее, была просто сверхъестественной. Со всех сторон на него сыпались насмешки. И как только ни старались, чтобы подрезать ему крылья!.. Сионистский исполком, конечно, был против него, евреи-несионисты считали его какой-то злой напастью» (из книги Х. Вейцмана «Пробы и ошибки»).
Один против всех… И кто даст гарантии, что это не болезненные фантазии отчаянного честолюбца, готового ради славы поставить на кон жизни многих людей? И В. Жаботинский сам отвечает на этот вопрос в мемуарах «Слово о полку»: «„Все ошибаются, ты один прав?“. Не сомневаюсь, что у читателя сама собой напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки… Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен – сиди дома; а если уверен – не оглядывайся, и выйдет по-твоему» [Жаботинский 2012, с. 64].
Откуда такая железобетонная уверенность в своих силах? Ведь даже самый стойкий может сломаться, если все кругом твердят: не то, не то, не то… Явно есть какой-то эликсир несгибаемости, какой-то авторитетный пример для подражания! Нашелся такой на выжженных солнцем равнинах Кастилии-Ла-Манчи: «Я говорю (идея мною заимствована у Тургенева), что у каждого человека и у каждого народа есть две души: душа Гамлета и душа Дон-Кихота. По Тургеневу, Гамлет – это воплощенная аналитическая мысль, рефлексия, рефлексия, сковывающая действия и не позволяющая принимать смелые решения. Дон-Кихот же – он Дон-Кихот. Вовсе не сумасшедший, человек с двумя руками, на каждой по пять пальцев. Для Гамлета главное – „занять позицию“. Если ему удается ее определить и осознать, он может спокойно ожидать любых действий (в точности как современная Лига наций). Дон-Кихот – человек дела. У него действие опережает мысль, для него определение „позиции“ выражается в действии» (слова В. Жаботинского из книги Моше Бела «Мир Жаботинского»).
Думается, наш герой, излагая свое жизненное кредо, мог бы согласиться с каждый словом, произнесенным благородным идальго в XLVI главе бессмертного романа: «Я рыцарь и, если на то будет милость Всевышнего, умру рыцарем. Одни люди идут по пути надменного честолюбия, другие – по путям низкого и рабского ласкательства, третьи – по дороге обмана и лицемерия, четвертые – по стезе истинной веры. Я же, руководимый своей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства, ради которого я презрел мирские блага, но не презрел чести. Я мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал дерзость, побеждал великанов, попирал чудовищ» [Сервантес 2018, с. 418].
Недаром В. Жаботинского называли «последним рыцарем Европы». Конечно, бесстрашный, благородный человек, конечно, , вот только как быть с сопутствующим прилагательным «странствующий»? И здесь все сходится: чтобы сформировать еврейский легион, журналист без устали колесит по разным странам: «Через несколько дней я телеграфировал редакции в Москву: „Предлагаю посетить мусульманские страны Северной Африки – выяснить эффект провозглашенной султаном священной войны на местное население“… Начал я с Марокко; но поехал через Мадрид. Там жил Макс Нордау; не тем будь помянута Франция – но в самом начале войны кому-то в Париже пришла в голову светлая мысль выселить его как „венгерца“» [Жаботинский 2012, с. 17] (из книги «Слово о полку: история Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора»). рыцарь
Услышав от соучредителя Всемирной сионистской организации весьма тонкое замечание о характерных чертах своих соплеменников («… логика есть искусство греческое, и евреи терпеть его не могут. Еврей судит не по разуму – он судит по катастрофам. Он не купит зонтика «только» потому, что в небе появились облака: он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких – тогда другое дело» [Там же, с. 19]), В. Жаботинский двинулся дальше: «После этой беседы я побывал в Марокко, Алжире, Тунисе, стараясь «обследовать», произвел ли турецкий призыв какое-либо впечатление, есть действительная опасность магометанского восстания» [Там же, с. 19]).
Воспользовавшись еще одним дельным советом, («Призыв к священной войне? Абсурд. О впечатлении смешно и спрашивать. Только у вас, наивных европейцев, еще верят в то, будто на Востоке во имя солидарности ислама можно поднять народные массы и двинуть их на серьезный риск» [Там же, с. 20]), В. Жаботинский направился в Египет, где и было сформировано первое подразделение еврейского контингента: «В Александрии я нашел очень оживленную сионистскую среду. Пароход, о котором говорил тот офицер, действительно привез больше тысячи беженцев из Яффы… Английские власти дали нам бараки и открыли денежный кредит, при канцелярии губернатора был даже устроен особый отдел попечения о беженцах… Кроме того, была у нас школа, конечно, с преподаванием на еврейском языке; была библиотечка, аптека, вообще целое самоуправление, даже с отрядом стражи, которую мы называли „нотерим“»» [Там же, с. 20 – 21]). который, правда, надо сказать, для нашего времени смотрится не так уж оптимистично
Впрочем, не обошлось и без некоторого казуса, связанного с каким-то вовсе «негероическим» названием боевого формирования. В. Жаботинский так пишет об этом эпизоде в книге «Слово о полку…»: «Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвелла надо вежливо отклонить. Французское слово („отряд погонщиков мулов“), которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация – первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион… и погонщики мулов?..» [Там же, с. 32]). Corps de muletiers
Колебания Жаботинского и его товарищей весьма остроумно развеял будущий командир отряда, один из героев русско-японской войны, четырежды георгиевский кавалер: «„Мул“, – отозвался кто-то из нас, – ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски. – Позвольте, – ответил Трумпельдор, – по-еврейски ведь и „лошадь“ тоже ругательство – („ты лошадь!“, ) – но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски („верблюд, уродина“) – самое обидное слово: однако есть и у французов, и у англичан верблюжьи корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки» [Там же, с. 33]). bist a ferd! идиш chameau
Человек с большим боевым опытом оказался прав в оценке будущей значимости действий этого небольшого (около 600 человек) подразделения сопровождения: «… эта группа беженской молодежи несла на себе тяжелую и опасную службу под турецким огнем… Под этим огнем им приходилось каждую ночь вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и консервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем остальные полки Галлиполийского корпуса, получили несколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой и честью» [Там же, с. 36].
«Большое начинается с малого» – так, думается, можно было оценить успехи первого еврейского воинского формирования: «Вообще в течение всей первой половины военного времени отряд этот оказался единственной манифестацией, напомнившей миру, в особенности английскому военному миру, что сионизм „актуален“, что из него еще можно сделать фактор, способный сыграть свою роль даже в грохоте пушек. Для меня же лично, для моей дальнейшей работы по осуществлению замысла о легионе, сыграл роль ключа, открыл мне двери английского военного министерства, дверь кабинета Делькассэ в Париже, двери министерства иностранных дел в Петербурге» [Там же, с. 35]. Zion Mule Corps
Многие, видимо, поневоле задумаются над вопросом: какими же качествами должна обладать личность, которая берется за такое бесперспективное дело? Наш вариант ответа: изначально, быть человеком с воображением: «Ну – а вы что предлагаете? – Компромисс. По справедливости Англия может требовать от иностранного еврея только двух вещей. Во-первых, принять участие в защите самой территории Англии, т.е. этого острова, где он пользуется гостеприимством: по-вашему – . Во-вторых, биться за освобождение Палестины, потому что „дом“ его племени: по-нашему – — в этом заключается моя военная программа для ваших ист-эндских друзей. – Он подумал и вдруг сказал: – Вы мечтатель» [Там же, с. 71] (с учетом стены сопротивления, сопоставимой разве что с линией Мажино) home defence heim. Home and Heim (из разговора В. Жаботинского с депутатом парламента от английской либеральной партии Джозефом Кингом).
Во вторую очередь, максимально использовать свои профессиональные навыки и связи: «Я вспомнил свое старое кредо: правящая каста мира сего – журналисты. Я поехал в редакцию „Таймса“ к мистеру Стиду… На следующее утро в „Таймсе“ появилась его передовица. Мне говорили, что такой головомойки военное министерство не получало за все время войны… После этого выступления газеты-громовержца все остальное уже было сравнительно легко. Лорд Дарби принял вторую делегацию и сказал им, что за полком сохранен будет его еврейский характер и что нет никаких причин опасаться отправки его не на тот фронт, какой предполагался с самого начала…» [Там же, с. 121].
Третье, думается, совсем не лишнее качество – личный пример и самоотверженность. Нелегко, наверно, себе представить, но известный публицист и блестящий переводчик Данте, Вийона, Петёфи, Ростана, Д’Аннунцио в 37-летнем возрасте вдруг оставляет журналистскую и литературную деятельность и поступает рядовым в Еврейский легион. Причем не чурается самой неблагодарной работы; о чем пишет в «Слове о полку…»: «О казарменных моих переживаниях подробно рассказывать не стоит: служил, как все рядовые, только без той ловкости и молодости, что полагается рядовому. В первые дни, пока у меня еще ломило предплечья от антитифозной прививки, подметал полы в нашем бараке и мыл полы в столовой у сержантов» [Там же, с. 95].
И четвертое, пожалуй, ключевое – беззаветная вера в торжество задуманного праведного начинания: «Из Сити батальон направился в Уайтчепел… Бело-голубые флаги висели над каждой лавчонкой; женщины плакали на улицах от радости; старые бородачи кивали своими сивыми бородами и бормотали молитву „Благословен давший нам дожить до сего дня“… Солдаты, те самые портные, плечо к плечу, штыки в параллельном наклоне, как на чертеже, каждый шаг – словно один громовой удар, гордые, пьяные от гимнов и массового крика и от сознания мессианской роли, которой не было примера с тех пор, как Бар-Кохба в Бетаре бросился на острие своего меча, не зная, найдутся ли ему преемники… Молодцы были эти портные из Уайтчепела и Сого, Манчестера и Лидса. Хорошие, настоящие „портные“. Подобрали на улице обрывки разорванной чести и сшили из них знамя, цельное, прекрасное и вечное. На следующее утро мы выехали из Саутгемптона во Францию – Египет – Палестину» [Там же, с. 130 – 131].
Человек штатский, В. Жаботинский, тем не менее, отчетливо понимал, что пятитысячный Еврейский легион, вошедший в состав британской армии, не сможет оказать определяющего воздействия на ход военных действий.
Однако, похоже, имя Бар-Кохбы в предыдущем фрагменте было упомянуто далеко не случайно. В благополучный исход руководимого им восстания иудеев во II веке н.э. против римского владычества не верил практически никто: силы были слишком не равны. Но вмешался фактор, который, пожалуй, уж никак не могли вычислить опытные военачальники императора Адриана. Размах мятежа определился ни количеством поселений, охваченных протестом, ни численностью протестующих, ни запасами оружия, спрятанного в укромных местах. Главное, думается, решило число букв и их расположение в имянаречении вождя бунта. Шим’он бар Косва в ходе восстания получил имя Бар-Кохба, что по-арамейски означает «сын звезды» и недвусмысленно отражает мессианские ожидания иудеев, являясь интерпретацией слов Библии о звезде от Иакова.
Этот нематериальный, но духоподъемный аспект, по-видимому, и придал мятежу невиданный динамизм: за несколько месяцев под власть повстанцев перешли 50 городов и деревень. Затем римляне вынуждены были оставить Иерусалим, Бар-Кохба был объявлен царем и стал даже чеканить собственную монету. Трудно поверить, но и проблемы у восставших каким-то невероятным образом оказались связаны с новым именем, даже скорее, с прозвищем нового иудейского государя. «Бар-Козива» (по-арамейски «сын лжи») стали его звать противники и, в первую очередь, ведущие военачальники его армии, после того как он пытался внедрить железную дисциплину и административную вертикаль. Итог: римские легионы под предводительством Юлия Севера вновь захватили Иерусалим, а сам Бар-Кохба в 135 году н.э. погиб при защите осажденной крепости Бейтар.
О чрезвычайном значении нематериальных, «идеалистических» факторов в деле освобождения Палестины – проникновенные слова В. Жаботинского: «И вдруг, 2 ноября 1917 года прогремел под Газой первый пушечный выстрел нового наступления, и в несколько недель освободился весь юг и вся Иудея, от Иерихона до Петах-Тиквы и Яффы. И тогда евреям рассказали, что… „еврейская армия“, о которой у них давно шептались, уже в пути, идет освобождать Самарию, Галилею, Заиорданье – времена мессианские настали! Жителю многолюдных городов трудно будет понять, как воспринял это крохотный народ еврейской Палестины. Всего их было тысяч пятьдесят. Когда вдруг повеет великий дух над малой общиной, получаются иногда последствия, не далекие от чуда: в этом, может быть, разгадка тайны Афин и того непостижимого столетия, которое породило и Перикла, и Сократа, и Софокла – в городишке с тридцатью тысячами граждан. Я, конечно, не приравниваю ни талантов, ни значения; но по сумме чистого идеализма Палестина в те дни могла поспорить с каким угодно примером» [Там же, с. 155].
Но, постойте, конечно, тут ясно видится подъем патриотизма, воспарение «общественного бессознательного», направленного на освобождение любимой отчизны. А если посмотреть на это с другой, назовем это – «семейной», стороны? Откуда берутся силы для преодоления обыденного благоразумия, обволакивающего каждого «кокона бесконфликтности», для прыжка над собственными комплексами и сомнениями? Может, об этом стимуле сказал поэт?:
И тогда, может, каждый, кто борется за благородное, правое дело, памятуя при этом о маленьком сыне в кроватке и ободряющей улыбке любимой, – ? Сам хоть на капельку герой книги, суть которой так зорко подметил Федор Достоевский: «О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет… Чему учат теперь в классах литературы – не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно, возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу середины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию» сам немножко Дон Кихот (см. статью Галины Химич «Характерные черты испанской культуры как парадигма национального сознания»).
Думается, именно этот порыв вверх от плоской поверхности будничности и сделал по-ирландски упрямого и неунывающего Джона Паттерсона командиром 38-го батальона Еврейского легиона: «Но Паттерсон остался, как был, другом еврейского народа и другом сионизма… Видимся мы редко; но, когда встречаемся, в Лондоне или в Париже я ему, как брату (такой он и есть), поверяю свои разочарования и заботы, он улыбается все той же ирландской улыбкой, как улыбался тогда после нашей стычки с генерал-адъютантом или как улыбался в Иорданской долине после особенно тяжелого дня: улыбкой, сводящей на нет и генералов, и малярию, и вражьи пушки; улыбкой человека, верующего только во всемогущество сильных упрямцев. Он подымает стакан и пьет свой любимый тост: – („За неприятности!“, .). – Не знаю, как перевести . Беспорядок? Неприятности? „История“? Ближе всего подошло бы еврейское „цорес“. Паттерсон пьет за все то, что нарушает мутно-серую гладь обыденщины. Он верит, что есть эссенция жизни, главная пружина прогресса» [Жаботинский 2012, с. 192 – 193]. Here is to trouble! англ trouble trouble
Пожалуй, не иначе, как это страстное отторжение идола середины подвигло жителей Иерусалима осаждать штурмом призывные участки: «Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия „осрамила“, т.е. забраковала, их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: „Стыдно глаза на улице показать“. Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему сорок лет – „но врач оказался антисемитом“. С аналогичными жалобами приходили мальчики явно пятнадцатилетние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут» [Там же, с. 148 – 149].
Похоже, далеки от житейской рутины были и солдаты одного из лучших подразделений Еврейского легиона, состоящего из уроженцев главного припортового города еврейской Палестины: «Лично мне больше всего нравилась группа бывших яффских гимназистов, первого и второго выпуска. Эту гимназию много у нас бранили: и за якобы „критическое“ отношение к Библии, и за совместное воспитание мальчиков и девочек, и просто педагогически. Во всем этом мне не разобраться; знаю только, что на большинстве ее воспитанников того периода лежал общий нравственный отпечаток, и хороший, с высокой меркою требований к самим себе в смысле долга, товарищества, рыцарства, мужества, даже манер и с великой готовностью к жертве за страну и идею» [Там же, с. 205]…
Вызывающе непочтительный к позиции «осторожных» план В. Жаботинского по созданию Еврейского легиона и нестандартные ходы по его реализации, к удивлению многих, принесли свои плоды: «В июне 1918-го батальон, в котором служил Жаботинский, прибыл на фронт и занял позицию в горах Ефремовых, между Иерусалимом и библейским городом Шхем (нынешний Наблус), первой столицей Израильского царства после раздела Израиля Иеровоамом. Еврейский полк участвовал в боях за переправы через реку Иордан, а после завоевания Заоирданья получил название и менору с надписью „Кадима“. Его солдаты и офицеры носили форму британской армии, но на левом рукаве у бойцов был символ Израиля – Маген Давид (щит Давида), в первом батальоне – красного цвета, во втором – синего и в третьем – фиолетового. В результате летнего наступления (в разное время легионеры составляли от 15 до 20 процентов британской армии) турецкая армия была окружена и разбита. 30 октября 1918 года Турция капитулировала» [Гругман 2014, с. 76] (из книги «Жаботинский и Бен-Гурион: правый и левый полюсы Израиля»). „Judaean Requirement“