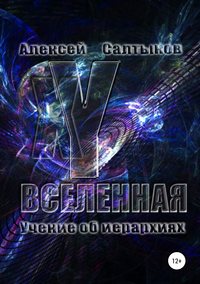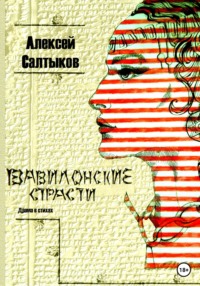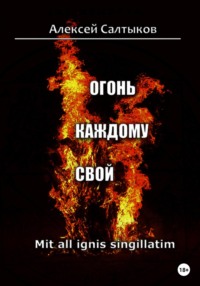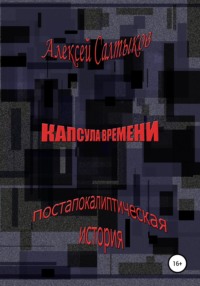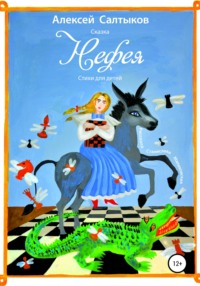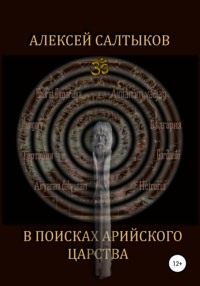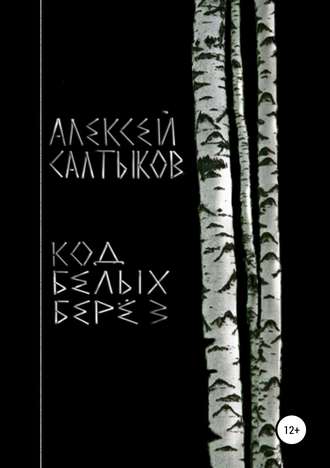 полная версия
полная версияКод белых берёз
Это «движимое имущество», которое кормило, одевало, защищало чужеродную власть эрбинов, и был Русский народ – русы. И та разительная бедность и бесправие его поглотившие бросались в глаза всем, кто однажды это видел.
Но что однажды происходит? Ничто не стоит на месте и дети жившие «не только хлебом единым» начинают пухнуть от голода особенно тогда, когда случался ещё и неурожай лебеды. И вот когда взаимная глухота господ и рабов доходит до предела «движимое имущество» восстаёт в «бунт бессмысленный и беспощадный! И для глухих и слепых вызывает страшное удивление: как так, чего вам ещё не хватает? И тогда русский не узнаёт русского, а после обвиняет его же в кровопролитии и гражданской войне. Кто же, как ни Химера довела само общество?
Кому, как не представителю Химеры принадлежат эти слова: «Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин – все, как на подбор, преступные… Римляне ставили на лица своих каторжников клейма… На эти же лица ничего не надо ставить – и без всякого клейма все видно… И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой. Восточный крик, говор… Даже и по цвету лица желтые, и мышиные волосы! У солдат и рабочих то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие… А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, мурома, чудь белоглазая…» , – писал о восставших Иван Бунин. Сколько же ненависти эрбинов выплёскивается при виде недовольства собственных кормильцев! Голодных, измученных тысячелетней жаждой свободы, тысячелетней тоской по собственной мечте, по большому кораблю, в котором каждый знает своё место и каждый отвечает за него, в тоске создать нечто общее, общинное, так, чтобы без обмана, так, чтобы спину не ломило плётками, а детки не пухли с голоду. Чтобы ходили учиться в школу, что бы все познавали науки, культуру, а потом вместе задумывались, – как обустроить страну, чтобы и жилось и работалось всем привольно, и страна бы при этом процветала и давала отпор лихоимцам, ворам, ростовщикам. Чтобы не было ни их, ни раскольниковых.
Но «элита» не способна была этого понять. А немногие понимавшие ничего уже не могли поделать.
Вот какие послания слали Земства Государю:
«В Полтавском адресе говорилось, что «праведный голос земства, нелицеприятно предстательствующий о нуждах местного населения, свободно восходя к престолу, всегда будет милостиво и благосклонно выслушиваем»
Саратовское земство писало, что «преисполнено готовности неустанно трудиться па пользу местного населения, уповая под державою Вашею…
В Курском адресе говорилось, что земство «твердо уповает, что его деятельность под охраною впредь доверия я Вашего Императорского Величества достнгнет благоприятных условий для своего развития…
Затем указывались и эти нужды: «просвещение, гласность и разрешение коренных вопросов земледелия…
Уфимцы писали: «мы приемлем смелость думать, что голос наш о нуждах народных*, о горе и радостях найдет свободный доступ к Вам, Государь…» (Цит по кн. Белоконский И. П. «Земство и конституция», Москва, 1910 год, стр. 40)
И многие, многие земства откликнулись подобными адресами.
Что же ответил Николай II? Оставьте «бессмысленные мечтания».
Революция – событие социально-экономическое – слом отжившей системы отношений и построение новых. Так на смену сословно-буржуазному строю в России воздвигся коллективно-общинный социализм. Вместо Империи стал СССР, места властных эрбинов заняли «кухаркины дети» – «весь, мурома, чудь белоглазая» заключила мир, отдала землю крестьянам, заводы рабочим, построила электростанции, провела свет в дома людей, победила безграмотность, безработицу, построила тысячи новых заводов, победила фашизм, создала атомную бомбу, отправила в космос первого человека, стала второй державой в мире, была оплотом этого мира. Это ваши отцы, русичи сбросили в 1917 году власть эрбинов и дали воскреснуть в себе ростками РЦ. Это был их триумф, Триумф Русской Цивилизации.
«Большевики победили. И не потому, что были сильнее, а потому, что их идеи оказались близки нашему естеству. Россия это улей или муравейник, и правила эгоистов-пауков для него неприемлемы, какие бы они блага не сулили. Не может муравей быть эгоистом, он коллективист. И как бы запад ни пытался высмеять это чувство, называя его рабской психологией, ничего у него не выйдет. Русские люди всё равно будут жить общиной, по принципу «один за всех и все за одного» (Цит. по кн. Юрий Шалыганов «Русский проект», стр. 112)
Глава 5. Под властью эрбинов
«Во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. – свободны».
(А. Х. Бенкендорф)
Совершенно очевидно, что развитие Западной Цивилизации происходило по иному сценарию, чем РЦ. Как я показывал выше, и власти, элиты, и их народы принадлежали там к одной гаплогруппе R1b1 (в основном), то есть, хотя и терзали они себя так же и поборами и бунтами, рубили друг другу головы, свергали императоров, провозглашали республики, но всё это происходило в более менее осознанном понимании друг друга, без изменения систем и ценностей. Там не было, да и не могло быть такой Революции и гражданской войны с выдворением чужеродных элементов. Но и социализм там не прижился по тем же причинам.
РЦ тысячелетие существовала под властью Химеры, а власть в стране принадлежала чужеродной гаплогруппе R1b1. Только так можно объяснить тотальное равнодушие властей к бедам «своего» народа. В одной из своих книг кандидат исторических наук Борис Керженцев приводит следующее письмо дворянки своему брату: «…Все ваши крестьяне совершенно разорены, изнурены, вконец замучены и искалечены не кем другим, как вашим управителем, немцем Карлом, прозванным у нас «Карлою», который есть лютый зверь, мучитель… Сие нечистое животное растлил всех девок ваших деревень и требует к себе каждую смазливую невесту на первую ночь…»
Обратимся к статистике. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона «Россия» выпущенном в 1898 году отмечает такое важное обстоятельство как повышенная смертность
особенно среди детей. И это отнюдь не из-за несовершенства медицины того времени. В статье «Современное санитарное состояние (стр. 224 отмечается: « Смертность в России поистине громадна; она не может быть объяснена ни разницей в возрастном составе, ни усиленной рождаемостью, но указывает на низкое положение страну в культурно-санитарном отношении… Дети до 5-ти лет в России составляют 57,4% всех умерших. (В Швеции 33%, во
Франции – только 28,3%)… Главнейшими причинами громадной детской смертности в России являются тяжёлый труд женщин во время беременности, отсутствие свободного времени и недостаток ухода за детьми, как следствие крайней бедности и безграмотности».
Фото: Бурлаки на реке Суре. Фотография. 1915г.
http://www.proznanie.ru/teacher/?class=9rushistory&content=341ed64f542693cd549f556cd95d1858
Вообще, состояние медицины и здравоохранения страны на 100% точности характеризует отношение властей к народу: количество врачей, больниц, поликлиник, доступность лечения, особенно для маленьких детей – важные факторы заставляющие призадуматься.
Стр. 225 словаря «Россия»: «Итак, число врачей в России почти в 5 раз меньше, чем в Англии и в два раза меньше, чем в Австрии и Норвегии ( в пересчёте на 1 миллион населения)
В. Ф. Одоевский в своём дневнике за 26 декабря 1861 года писал: «Губернский врачей теперь назначают губернаторы:… в результате – 200 вакансий по городам, ибо департамент не назначил ни единого без взятки, а взятка была высока!»
(Цит. по «Дневник В. Ф. Одоевского)
Чем же восполнялось это печальное положение вещей? Почему Россия в итоге не вымирала? Всё это происходило за счёт чудовищного насилия над человеческим потенциалом. Чтобы не вымирать совсем нищая крестьянская семья должна была иметь не менее 3-х детей. Царю требовались рекруты для войны, в храмы требовались служители и самому на старость помощник должен был остаться. Всё богатство бедного крестьянина заключалось в его детях, о чём и говорят многие поговорки русского народа:
«всякий мужчина отцу и матери сын, а женщина дочь. Сын да дочь красные дети, ·т.е. двоечка. Один сын не сын (не помощь), два сына не сын, три сына сын. У меня два сынка, сыночка. Это сынишка мой. Неудатный сынища отцу-матери покор. Сынами славен, дочерьми честен. Богат сыновьями, славен дочерьми.
Первый сын Богу, второй Царю, третий себе на пропитание.» (Словарь В. Даля значение слова «Сын»)
Жизненная сила, заключённая в самом народе даже под гнётом Химеры была велика. РЦ всегда были присущи семейные ценности. Несмотря ни на что семья была главным его миром, ради которого он жил, работал и умирал.
Словарь Брокгауза говорит:
«По величине коэффициента брачности России принадлежит 1 место в ряду европейских государств; в России по данным за последнюю четверть столетия на 1000 жителей приходится по 9 браков, в большинстве государств Западной Европы – от 7 до 8.»
Это очень важное качество характеризующее народ РЦ, R1a1: верность, целомудрие, семейственность, скромность, доброта, человеколюбие. Отсюда вытекает ещё одно очень важное качество:
«По величине коэффициента рождаемости России принадлежит в Европе 1 место: в России родится по 48 человек на 1000 жителей, в западных государствах – от 22 до 41 (энциклопедия Б. и Е. , стр. 97)
Силу целомудрия русского народа отметили даже наши враги – нацисты. Так, известен случай, как в разгар Великой Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16–20 лет, решил обратиться к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей страной. Его удивило, что 90% девушек были девственницами, и он написал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью!!! Это очень важное явление. Восхождение Русской Цивилизации происходит одновременно с подъёмом духовности и нравственности. Тогда, что нужно сделать, чтобы прервать это восхождение? Правильно. Если народ, его дух нельзя победить в бою, то нужно разложить его изнутри. Но это уже тема для других глав.
Брачность, рождаемость – это коэффициенты определяющие давление и силу Гена Цивилизации. А смертность – внешний феномен вызванный противодействием этому давлению.
Фото: Енисейская губерния на рубеже XIX−XX веков
http://fototelegraf.ru/85857-enisejskaya-guberniya-na-rubezhe-xix−xx-vekov.html/rossiyskaya-imperiya-fotohronika-6
Обратите внимание, главе семейства, скорее всего не более 40 лет.
Несмотря на внутреннее жизненное давление велика была и смертность.
«Смертность в России выше, чем где-либо в Европе… В России умирает в среднем ежегодно 35 человек на 1 тыс. жителей, тогда, как в Скандинавских государствах – не более 17-ти, в Англии – 19, Франции – 22, в Германии – 24.
Отсюда можно сделать интересный вывод: бережение человеческого потенциала – качество единонаправленных власти и народа.
С развитием мировой цивилизации в XIX веке повсеместно возникает потребность в повышении образованности и культурного уровня людей. Поменялись формации, усложнились механизмы, выросло производство. Пришедший на смену феодализму капитализм требовал иного уровня знаний для наёмного рабочего. Это всё равно был минимум, но повышение было всё же повсеместным. Нужда в образованности коснулась и Россию. Медленно, нехотя для бедняков с большим уклоном в религию, а для аристократии в иностранную галантность школы стали развивать с целью, чтобы не нарушить старый патриархальный уклад, только бы не зародить искру вольнодумия. Но в сухом стогу только чиркни спичкой! И как только человек начинает познавать мир объективно, у него открывается зрение и появляется множество вопросов. Чем больше знаний – тем больше вопросов.
Первая грамотность на Руси была доступна лишь духовенству. И это понятно. В тёмные века лишь оно одно могло совладать с искушающим яблоком. Первые школы ещё в XVI веке начали создаваться лишь для их детей. Иностранный путешественник Яков Мержерет в начале XVII века писал: «невежество русского народа есть мать его благочестия; он не знает ни школ, ни университетов; одни священники наставляют юношество чтению и письму, и этим занимаются немногие».
Кто знает, сколько невидимого страдания скрывается под этим видимым «благочестием»? Сколько больше пользы себе и Родине мог бы принести грамотный, образованный человек и тогда уже! Тогда как в Европе первые университеты, такие как Болонский, основанный в 1088 году, появились еще в Средние века!
За 8 веков своего существования власть не сделала ничего положительного в сторону повышения уровня жизни, культуры своего народа. Да и зачем? Когда достаточно одного кнута?
Но время шло и уже требовались не просто пилители брёвен, а инженеры, не просто вёсельные гребцы, а лоцманы. Нужда в грамотности людей возникала сама собой не из любви к народу. Вот потому то просвещение так легко задвигалось в темницу при первых же попытках людского вольнодумства.
Но и здесь, в началах Российского образования было закреплено социальное неравенство. Так, новым уставом от 1828 года закреплялось: «при назначении постепенности учебных заведений, должно иметь в виду потребности тех состояний, которые должны получить в них окончательное образование… Приходские училища… для крестьян, мещан и промышленников низшего класса; уездные – для купечества, обер-офицерских детей и дворян; гимназии – преимущественно для дворян». То есть: к какому сословию ты принадлежишь, тому и обучать тебя будут. Отсутствие социального лифта – как способ сохранения существующих порядков, отгораживания власти, аристократии от народа.
Что можно сказать о состоянии общества, когда сам Министр народного просвещения гр. Уваров в 1840 году писал: «… наступило время пещись о том, что бы чрезмерным этим стремлением к высшим предметам учения не поколебать порядок гражданских сословий…». К тому времени диалектика Гегеля уже тревожила умы многих.
«Знания умножают скорбь» – сказано красиво, но не очень умно. Не знания скорбь умножают, а открытые знаниями глаза и увиденная человеком действительность умножают скорбь. Да и то только у слабых. Среди сильных духом они умножают благородный гнев. А вы бы предпочли жить в гордом неведении или всю жизнь с закрытыми глазами, в трусости взглянуть правде в лицо и не касаться её знаний?
Это лишь потому, что сегодня для вас это всё доступно. И доступно с таким излишком, с такой долей лжи и вранья, что все ваши знания превращаются в искажающие линзы и зеркала, и, глядя на действительность или устремляясь в историю, вы видите всё в искажённом виде. Избыток псевдо знаний не делает человека умным. Точнее он не может воспользоваться этими «знаниями» себе во благо. И поэтому сегодня каждому необходимо выработать для себя методы фильтрации лжи, клеветы и фальсификаций.
В 1845 году тот же министр выражался уже так: « принимая во внимание, что в …учебных заведениях чрезмеру умножился прилив молодых людей, рождённых в низших слоях обществ, для которых высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них самих и для государства … для удержания стремления образования в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий, повысить плату за учениние»
Вот так. Сделайте сравнение с абсолютной доступностью для всех образования в СССР. А вот в Химере всё происходит по-иному. Химера страшится образованности носителей Цивилизации и желает держать их постоянно в «первобытном состоянии». Но как показала история, никому от этого пользы не случилось. Как не получилось бы пользы государству, стань образование доступней! Ведь выучившийся сын крестьянина не мог стать чиновником. Для него это было действительно бесполезно! Ведь социальные лифты отсутствовали напрочь. Случай с Ломоносовым – только случай! Вспоминается старый советский анекдот про сына полковника: «пап, а я стану генералом? Нет, у генерала свой сын есть». Это была, конечно, полная ложь. В СССР кто хотел, мог выучиться бесплатно и стать кем только пожелал бы, нужны были только желание и воля. А вот в России эрбинов нужно было родиться в привилегированном сословии, чтобы пойти учиться и стать, скажем, генералом.
То чего опасалось правительство, даже ограничивая просвещение, всё равно выползло наружу. Уже в середине XIX века в России стало традиционным протестное студенческое движение. Чудовищная материальная разница между студентами, пережитки сословных делений, курс правительства на урезание, ущемление бюджета, прав учащихся, ректоров – всё это вызывало бурю протеста среди молодёжи.
Образованным людям первым делом бросается в глаза несправедливость чудовищного неравенства в обществе. Начинаются поиски причин и способов выхода. Наиболее радикальные видели избавление в убийстве Царя: ««Чудовище», жившее до сих пор где-то под землею, вдруг от времени до времени начинает высовывать наружу одну из своих лап. И при каждом появлении на свет обнаруживает все большую и большую дерзость и беспощадность в исполнении кровавых замыслов и все большую ловкость и быстроту в укрывании своих следов. И сильные мира сего чувствуют, что почва теряется под ними». (С. Степняк-Кравчинский). И напрасно горе-искатели ищут корни терроризма в психологических и даже социальных закоулках. Но, если это явление цивилизационное, то оно относится уже и к другому порядку вещей. Для того чтобы траве прорасти из-под асфальта нужно начать разрушать сам асфальт. Понимая суть явлений человечество должно научиться не угнетать их, а помогать избегнуть насилия и дать путь к развитию.
4 апреля 1866 года прозвучал выстрел Каракозова в Александра II. Бунт бессмысленный, бунт «самозванный» (Пугачёв), бунт самоубийственный (декабристы), обретал иные цели: бунт цареборческий, а с появлением марксизма бунт стал частью борьбы с системой. Выстрел Каракозова был направлен не именно в Александра, а во всю самодержавную власть, во всю отжившую систему.
«Нужно признать, – писал Бердяев в своей книге «Русская идея», -характерным свойством русской истории, что в ней долгое время силы русского народа оставались как бы в потенциальном, неактуализированном состоянии. Русский народ был подавлен огромной тратой сил, которой требовали размеры русского государства. «Государство крепло, народ хирел», – говорит Ключевский» (Цит. По кн. Бердяев Николай «Русская идея», стр. 8–9)
Но не только размеры русского государства вытягивали силы из народа – вся самодержавно-помещичья система относилась к народу лишь как потребитель и угнетатель.
Глава 6. Столица Химеры
Об этом городе стоит поговорить отдельно. Ведь каждый новый город – это часть истории, символ определённого времени, отражение видимости действительности теми, кто его возводил и достраивал. Какие только эпитеты к нему не примеряли: «Окно в Европу», «Северная Венеция», «Северная Пальмира», «Символ победы над шведами». Но скорее – это символ победы Запада над Русью, – столько всего западного и подражания ему вместил этот город. Одно название чего стоит: Санкт-Петербург.
Существуй в эпоху Петра настоящая независимая русская топонимическая комиссия (страна то ведь – Россия), она сразу бы отвергла это название. Более приемлемым для русского слуха и истории было бы Петроград. Но Пётр в названии увековечил даже не себя! В своём преклонении перед западом он увековечил в названии основателя западного христианства, католицизма – Апостола Петра, под знаменем которого тевтоны, крестоносцы и прочие совершали нашествия на Русь, уничтожая русских людей.
Во времена Петра у власти оказалось чудовищное количество эрбинов (в основном немцев). Они влияли на царя, на политику, склоняя, унижая людей, навязывая чуждые традиции. От того и новое Химерское Царство нуждалось в новой столице, которая бы противостояла и затмевала русскую патриархальную Москву. Так или косвенно и возник замысел Северной Столицы, которую не стал брать даже Наполеон I: она и так западная по духу и только древние топонимы напоминают о чём-то другом: Нева, Заячий остров, Охта, Каменный остров…
Новому городу суждено было превратиться в подражающий западу КИЧ. И если до Петра русские Князья подражали Византийским Императорам, то начиная с Петра, власть Эрбинов стала прямо подражать Западу во всех его комичных и трагичных моментах.
Властям было глубоко наплевать не только на простой народ, но и на историю, русские традиции. Ведь считалось, что истории у нас и не было до прихода Рюрика, а уж тем более истории простого народа – «лапотника».
Надо признать, что ко времени Петра православие более сблизилось с народом, чем самодержавие. Низшая часть церковнослужителей была ближе к народу, тяготела к нему, а высшая к власти. Он был слабозаметен, поскольку церковь, находясь между народом и властью, всё равно тяготела к решению стоящих перед ней задач: вера, спасение своей паствы. Но желанием Петра 1 было полное подчинение церкви себе.
Георгий Флоровский в своём труде «Пути русского богословия» отмечал: «В западничестве он не был первым, не был и одиноким в Москве конца XVII-го века. К Западу Московская Русь обращается и поворачивается уже много раньше. И Петр застает в Москве уже целое поколение, выросшее и воспитанное в мыслях о Западе, если и не в западных мыслях. Он застает здесь уже прочно осевшую колонию Киевских и «литовских» выходцев и выученников, и в этой именно среде находит первое сочувствие своим культурным начинаниям. Новизна Петровской реформы не в западничестве, но в секуляризации. Именно в этом реформа Петра была не только поворотом, но и переворотом»
Идеи подчинения церкви Пётр почерпнул из своих заграничных поездок, в частности из разговоров с Вильгельмом Оранским, который советовал Петру поступить на манер английских монархов объявивших себя главой церкви.
Пётр ненавидел русский народ, для него важнее были «деловые качества человека». В иноземцах он их видел. В русских – нет. «Для меня совершенно безразлично, крещён ли человек или обрезан, что бы он только знал своё дело и отличался порядочностью». Ничего лишнего, никакой души.
Западник А. Герцен, писал о Петре Первом: “…доводил денационализацию гораздо дальше, чем делает это современное правительство в Польше… Правительство, помещик, офицер, столоначальник, управитель (интендант), иноземец только то и делали, что повторяли – и это в течение, по меньшей мере, шести поколений – повеление Петра Первого: перестань быть русским и ты окажешь великую услугу человечеству” (Статья Герцена “Новая фаза русской культуры”). Это страшное направление удара космополита Петра Первого объяснял знаменитый Карамзин:
“Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, Государь России унижал россиян в их собственном сердце”, “Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства, подобно физическому, нужное для их твёрдости”.
Именно на основе унижения всего русского Пётр назвал построенный город на западный манер. Именно на основе нового унижения истории продажные демократы вернули городу в 1991 году снова это ненавистное название.
Теперь дословно разберём название. Санкт-Петербург с немецкого переводится как Святого Петра Твердыня. Начальное название из уст Петра исходило вообще нидерландским: Sankt Pieter Burch.
Апостол Пётр считается основателем Римской католической Церкви и первым Папой Римским. Напомню, что Папы Римские не раз благословляли походы против Руси, так было в 1238 году. Флаги армии, с которой бился Александр Невский, неожиданно снова поднялись в устье Невы.
Да, Апостол Пётр почитается и Русской Православной церковью. Но так ли набожен был Пётр, так ли православен был, что бы вкладывать в название города именно этот духовный смысл? Нет. И даже наоборот. Казалось, назови его просто своим именем. Но нет.
В названии города-мутанта сплелись три различных языка – латынь, греческий и немецкий. Sancti – по-латыни святой, πέτρα – по-гречески камень, Burg на немецком замок. Ничего русского. Но всё против него.
Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. И в этом нет никакой мистики. Вы всё равно подсознательно будете ощущать себя частью системы заданной одним только названием. А название города, тем более ставшего столицей – это уже часть идеологии. Идеологии эрбинов.