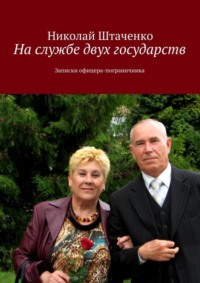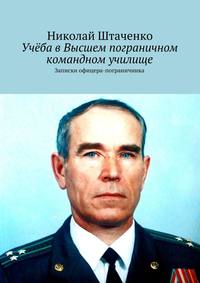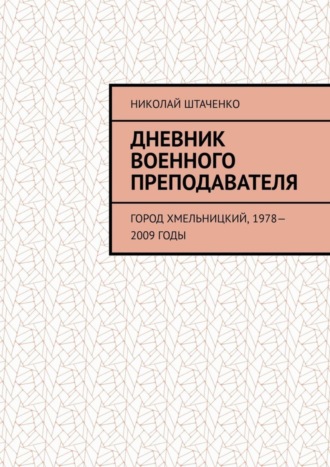
Полная версия
Дневник военного преподавателя. Город Хмельницкий, 1978—2009 годы
Новый начальник кафедры подполковник Шепель Н. И. был, можно сказать, беспринципным начальником. Он часто менял свои решения. Мог что-то пообещать офицеру, а потом забыть об этом или сослаться на какие-то причины. Собираясь в компаниях, он не контролировал меру выпивки, и часто перебирал.
Помню, как в середине сентября 1979 года, майором Савенко П. Ф. проводился в поле открытый урок по военной топографии; на этом занятии присутствовали все свободные преподаватели кафедры. Открытый урок проводился в субботу и закончился в 13.30. Там же в поле, отпустив учебную группу курсантов, начальник кафедры организовал разбор открытого урока. Все присутствовавшие преподаватели в своих выступлениях дали положительные отзывы о проведенном занятии. При подполковнике Шепеле Н. И. и началась традиция закрывать открытые уроки. Это значило, что проводивший занятие преподаватель, должен был выставиться после разбора открытого урока. Майор Савенко П. Ф. не поскупился – выставил три бутылочки «Пшеничной» водочки, хорошую закуску, прихватил набор рюмочек. Ну и начали закрывать этот урок до тех пор, пока не прикончили все три бутылки «Пшеничной». Много говорили, веселились, шутили. А там и время подошло к 14.30, а в 15.00, с ПУЦ до училища, должна трогаться общая колонна с курсантами. Нас, человек 12 офицеров кафедры, находились далеко в поле. За нами на автомашине ГАЗ-66 возвратился майор Савенко П. Ф., отправлявший с поля учебную группу. Он возмущался, говоря: «Колона автомашин ждет вас, выехать никак не может, быстрее садитесь в кузов автомашины, и едем к строящейся колонне». Все офицеры начали быстро садиться в кузов автомашины. Начальник кафедры, хватанув лишнего, окосел и не мог самостоятельно передвигаться. Ему помогли вскарабкаться в кузов автомашины. Капитан Исмагилов Г. А. заговорил, что начальнику кафедры в таком виде показываться там нельзя – ведь на построении колонны присутствуют офицеры учебного отдела, предложил завезти начальника кафедры в офицерскую гостиницу, и они там останутся ночевать, а на следующий день (в воскресенье) они вместе приедут в Алма-Ату на автобусе с поселка Илийский. Так и решили поступить.
Подполковнику Шепелю Н. И., как говорили офицеры кафедры, многое сходило с рук. Другого офицера давно бы вызвали на командование или на партийную комиссию и наказали бы, а его нет. Оказывается, его жена работала в политотделе училища инструктором, заполняла все партийные документы, вела учетные карточки всех коммунистов училища. Поэтому подполковника Шепеля Н. И. и не трогали.
Что касается заместителя начальника кафедры ОВД подполковника Дрошнева А. С., то у него были свои сильные и слабые стороны. Он не боялся принимать ответственных решений. Во внеслужебное время любил посидеть в компаниях офицеров, был активным рассказчиком всевозможных анекдотов, и, конечно, любил выпить в кампании.
Помню, как однажды, он зашел в преподавательскую комнату, называемую «людской», так как там располагалась самая большая по численности ПМК, и начал долго рассматривать на стене, оформленный в рамочке, список кафедры с днями рождения преподавателей. Смотрел, смотрел, и на завтрашний день не нашел ни одного преподавателя у кого бы назавтра был день рождения. Подполковник Дрошнев А. С. повернулся от списка, посмотрел на сидящих преподавателей и сказал: «Капитан Андреев, у вас завтра день рождения!». Капитан Андреев В. А. так и подскочил от сказанного и ответил: «Как? У меня день рождения был три месяца назад…». Подполковник Дрошнев А. С. сказал: «Ничего, что был, я назначаю ваш день рождения назавтра». Так захотелось Анатолию Степановичу опрокинуть рюмку водки, – ведь большой оказался промежуток в днях рождения.
Интересный был такой случай, когда подполковник Дрошнев А. С. был еще старшим преподавателем.
Где-то в апреле 1979 года, в одну из суббот в послеобеденное время, собрались на квартире у подполковника Василькова А. А. три офицера-преподавателя нашей кафедры: сам подполковник Васильков А. А., подполковник Дрошнев А. С. и майор Кузюков П. К. и начали потихоньку распивать одну бутылку водки на троих. Долго сидели, по грамм 50 наливали в рюмочки и выпивали, вели веселые разговоры. Когда в бутылке осталось меньше 50 граммов, – им этого оказалось мало. И тут в открытое окно на кухне, где они сидели, увидели проходящего по аллее мимо дома майора Зорькина Анатолия, – преподавателя с нашей кафедры ОВД. Подполковник Дрошнев А. С. начал его звать: «Зорькин, зайди к нам, выпьем по 100 грамм!» Майор Зорькин отвечал, что ему некогда, он спешит в магазин. А эти офицеры все его звали, говоря, что «успеешь в магазин». Майор Зорькин к ним поднялся на 2-й этаж. Подполковник Дрошнев А. С. остаток в бутылке, по грамм 20, разлил на четверых и предложил всем выпить. Все выпили и начали закусывать. Немного закусили. И тут подполковник Дрошнев А. С. майору Зорькину сказал: «Ну, что, Анатолий, мы все выпили, а теперь беги в магазин за бутылкой!» Ничего не оставалось майору Зорькину, как сходить в магазин и купить бутылку водки для продолжения посиделки.
Здоровьем был крепкий подполковник Дрошнев А. С.: никогда не пьянел, сколько бы ни выпил спиртного, легко переносил холод в зимнее время в ПУЦ.
Однажды рано утром, в январе 1979 года, находясь на занятиях в ПУЦ, я и капитан Исмагилов Г. А. зашли в комнату гостиницы, где отдыхал подполковник Дрошнев А. С., и что мы увидели? Этот старший преподаватель лежал и храпел, находясь под одной простыней, с открытой форточкой; в комнате было холодно, а он под простыней без всякого нательного белья и не мерз, а на улице было 28 – 30 градусов мороза. Поэтому мы все удивлялись.
Подошло время отправляться мне с курсантами на летнюю войсковую стажировку.
На войсковую стажировку с курсантами в июле 1979 года я отправлялся руководителем на два пограничных отряда Восточного пограничного округа – Панфиловский и Чунджинский. С Алма-Аты, к месту стажировки, курсанты выезжали городскими автобусами. Одну группу курсантов я отправил первой до г. Чунджа – это районный центр Уйгурского автономного района. С другой группой курсантов я сам на автобусе выехал до г. Панфилова – это тоже районный центр. В этих районных центрах дислоцировались управления пограничных отрядов. Я с курсантами до Панфилова ехал автобусом 8 часов; до Чунджи с Алма-Аты ехать всего 6 часов.
Курсанты стажировались на заставах с 1-го по 30-е июля 1979 года на должности заместителя начальника пограничной заставы.
Прибыв в Панфиловский пограничный отряд, я организовал встречу курсантов с командованием пограничного отряда, после чего курсантов распределили по заставам и организовали их отправку к местам стажировки. Я полмесяца находился в этом отряде, ездил по заставам и руководил работой курсантов, контролировал проводимые ими мероприятия, их службу, ведение дневника курсанта-стажера. В этом пограничном отряде я встретил двух своих однокурсников по пограничному училищу и военной академии: капитана Исаченко В. И., он был начальником боевой подготовки пограничного отряда и капитана Гурнака А. С., он командовал пограничной комендатурой. При встрече с замполитом этой комендатуры, он мне говорил, что вся комендатура ждет и никак не может дождаться, когда же капитан Гурнак А. С. женится. Он был еще холостяком, делать было нечего, поэтому каждую ночь разъезжал и поднимал заставы по различным сигналам тревог, без конца пускал «учебных нарушителей». Не давал покоя подчиненным заставам.
Через полмесяца, дав инструктаж старшему из числа курсантов, я на рейсовом автобусе прибыл в Чунджинский пограничный отряд. Проехал все заставы, где стажировались курсанты, и проверял их работу. В июле, в самой Чундже, было очень жарко, а на заставах, дислоцирующихся на высотах 2,5 тыс. метров и более, – 16 – 18 градусов тепла, в военной рубашке мне было даже прохладно находиться на заставах.
На комендатуре «Нарынкол» я встретил своего однокурсника по военной академии – капитана Умрилова В. М., он был комендантом пограничной комендатуры. На этой комендатуре я встретился с начальником 6-й пограничной заставы капитаном Балюком, – моим однокурсником по училищу. Много мы с ним разговаривали о наших курсантских буднях, перспективах службы, о наших товарищах по училищу, разбросанных по всей государственной границе.
Подошел конец летней стажировки курсантов на пограничных заставах. К 10.00 30 июля 1979 года все курсанты, стажировавшиеся на заставах Чунджинского пограничного отряда, были собраны в управление пограничного отряда, в Чундже. Итоги подводил ВРИО (временно исполняющий обязанности) начальника пограничного отряда майор Лукашевич Н. Ф. Каждый курсант детально отчитался за свою работу на заставе. При подведении итогов стажировки я давал рекомендации в отношении выставления заслуженных оценок каждому курсанту. Мои предложения относительно оценок были учтены в приказе начальника пограничного отряда. Заслушивание курсантов настолько затянул майор Лукашевич Н. Ф., что мы еле успели на автобус. Оставалось 10 мин до отправки автобуса; до этого времени я раза два напоминал майору Лукашевичу, что надо заканчивать и отправлять курсантов на автобус иначе мы опоздаем. Когда закончилось заслушивание, курсантов быстро усадили в два УАЗ-469, – и на автостанцию. Я ехал вместе с ними. Автобус уже готовился отправляться, так что еще бы на пару минут позже приехали, то пришлось бы догонять его. До Алма-Аты мы доехали без приключений.
В Панфиловском пограничном отряде итоги стажировки курсантов подводили без меня. Курсанты оттуда прибыли в Алма-Ату рейсовым автобусом благополучно. Документы по итогам стажировки в Панфиловском пограничном отряде мне предоставил в училище, старший из числа курсантов.
Курсанты с 1-го августа 1979 года отправлялись в отпуска и меня то же отправили в очередной отпуск, который я проводил в Алма-Ате.
С сентября 1979 года, после отпуска, начались мои занятия с курсантами, но уже на 4-м курсе.
К нам на 4-й курс, вместо майора Исмагилова Г. А. (ему в июле было присвоено очередное воинское звание), переведенного в Главное управление ПВ СССР, в Москву, назначили нового офицера-преподавателя – капитана Татьянина В. Л., окончившего Военную академию им. М. В. Фрунзе в 1979 году (моего однокурсника по училищу). Девять учебных групп 2-го учебного дивизиона, переведенные на 4-й курс, были закреплены за преподавателями следующим образом: за старшим преподавателем – 1-я и 2-я, за мной – 3-я и 4-я, за капитаном Татьяниным В. Л. – 5-я и 6-я, за начальником кафедры подполковником Шепель Н. И. – 7-я, за майором Доценко В. Ф. – 8-я и 9-я учебные группы. Соответственно, в ПМК 4-го курса входило шесть офицеров. Шестым на ПМК был подполковник Чемезов В. М. – старший преподаватель истории военного искусства, так как предмет военная история изучался только на 4-м курсе.
В те времена руководство кафедрой так же, как и преподаватели, занималось учебной работой. Начальник кафедры вел учебную группу на 4-м курсе, а его заместитель – на 3-м.
Мы с капитаном Татьяниным В. Л. еще считались начинающими преподавателями. В системе пограничного училища с начинающими преподавателями проводились различные методические занятия. Заместитель начальника учебного отдела отвечал за подготовку начинающих преподавателей. На общие мероприятия собирались все начинающие преподаватели училища в одном классе. Среди начинающих преподавателей я видел и майоров, и подполковников, и даже полковников. Иногда, по ошибке, начинающих преподавателей на занятиях называли молодыми преподавателями, то подполковники и полковники обижались за такое обращение, мол: «какие мы молодые преподаватели!».
Усложнилась работа на 4-м курсе. Ведь мы приступили к отработке с курсантами тем батальонной тематики, таких как: «Батальон на марше и в походном охранении», «Батальон в наступлении», «Батальон в обороне»; а также тем пограничной тематики: «Мотоманевренная группа в обороне», «Мотоманевренная группа в наступлении», «Действия мотоманевренной группы по поиску и ликвидации ДРГ», «Пограничная застава в наступлении по отражению вторгшегося противника» (с боевой стрельбой). Для начинающих преподавателей это было сложно. Поэтому учились у старших товарищей. Старший преподаватель курса майор Таратута П. В. по этим практическим темам – перед тем как нам самим проводить занятия – проводил показные занятия для всех преподавателей 4-го курса. Я присутствовал на всех этих показных занятиях, внимательно слушал, запоминал, наиболее важные методические приемы и методику отработки того или иного приема (действия) детально старался записать, а также правильный расчет времени на их отработку. Особое внимание обращал на порядок обозначения «противника», расчет имитационных средств и структуру группового упражнения, на порядок проведения разбора занятия. При проведении занятий со своими учебными группами я старался придерживаться методики проведения занятий, предложенной старшим преподавателем. В целом эти важные темы с курсантами 4-го курса всеми преподавателями курса были отработаны, курсанты твердо овладели знаниями и практическими навыками организации боя батальоном и мотоманевренной группой, научились управлять подчиненными подразделениями в различных условиях «учебно-боевой обстановки».
Вспоминается мне один случай при работе на 4-м курсе в 1979/1980 учебном году. В один из дней, в ноябре 1979 года, зашел к нам в кабинет начальник кафедры подполковник Шепель Н. И. В кабинете располагались преподаватели предметно-методической комиссии 4-го курса (тогда каждая ПМК имела свой кабинет). За столами сидели и готовились к занятиям два капитана (Штаченко Н. Н. и Татьянин В. Л.) и майор Доценко В. Ф. Старший преподаватель как раз в это время проводил занятия с курсантами. Подполковник Шепель Н. И. завел разговор о том, что в одной из методических разработок, составленной старшим преподавателем майором Таратутой П. В., на его взгляд, имеются неверные решения вводных по обстановке. И начал предлагать свои решения; я и капитан Татьянин В. Л. соглашались с доводами начальника кафедры, а майор Доценко В. Ф. (сорокалетний офицер) никак не соглашался, все говорил, что старший преподаватель методический документ составил верно.
Когда ушел с кабинета начальник кафедры, тут и насел на нас Василий Федотович: «Вы еще молодые преподаватели и не знаете, как надо себя вести в таких случаях, а я вам вот что скажу: вы должны всегда защищать своего старшего преподавателя, а не поддакивать начальнику кафедры, мало что ему взбредет в голову…!»
Майор Доценко В. Ф. по характеру был спокойным, рассудительным офицером, но немножко медлительным и флегматичным. Проживал он на улице Хаджи-Мукана (рядом с училищем). И был случай, при работе на 4-м курсе, когда он умудрился опоздать на автобус, следовавший в полевой учебный центр. Нет бы, выйти на остановку на 5 минут раньше до следования колонны, так нет же, – он выходил, минута в минуту, и автобус в тот раз только хвост показал, – как только сзади не махал руками майор Доценко В. Ф., никто его сигналов не заметил.
Выехало в ПУЦ четыре учебные группы, мы начали занятия, а майора Доценко В. Ф. нет. По указанию старшего преподавателя разбили учебную группу майора Доценко В. Ф. на части и пристроили к своим учебным группам. Мы с капитаном Татьяниным оба, при разговоре, полагали, что возможно майор Доценко В. Ф. внезапно заболел, что не появился на занятиях. И только, где-то, через час или полтора приехал майор Доценко В. Ф. Тогда мы узнали причину его опоздания. Пришлось ему ловить такси, заплатить 25 рублей (водитель согласился ехать с учетом оплаты до ПУЦ и обратно до города) и прибыть на занятия в ПУЦ.
Как ни старался майор Доценко В. Ф. защищать своего старшего преподавателя, а когда Петр Васильевич Таратута, став начальником кафедры, этого не учитывал, – потребовались два преподавателя от кафедры в учебный центр Покровка (под г. Фрунзе), так одним из кандидатов стал, тогда уже, подполковник Доценко В. Ф., хотя и не хотелось ему туда уезжать. Его на кафедре посчитали не перспективным преподавателем.
В декабре 1979 года нас, меня и капитана Татьянина В. Л., вдвоем от нашего училища, привлекли к участию в спортивных соревнованиях, которые проводились по офицерскому многоборью среди динамовских команд на чемпионате Казахстанского республиканского совета «Динамо». Мы заняли призовые места, за что вручили нам грамоты и кубки. Я занял на этих соревнованиях первое место по стрельбе из пистолета Макарова и общее второе место; капитан Татьянин В. Л. занял общее первое место.
Во время зимних каникул, в феврале 1980 года, когда курсанты отдыхали, с офицерско-преподавательским составом проводились зимние учебно-методические сборы. На них проводились различного рода методические занятия, методические семинары и методические конференции с приглашением докторов наук с различных вузов г. Алма-Аты. Кроме того, на этих сборах с офицерско-преподавательским составом подводились, в масштабе училища, итоги учебы и дисциплины курсантов за прошедший учебный семестр. На кафедрах с преподавательским составом так же подводились итоги усвоения курсантами учебных дисциплин кафедр за семестр. Учебно-методические сборы зимой всегда заканчивались для офицеров-преподавателей проведением 3-х суточных командно-штабных учений (КШУ). Тематика для проведения КШУ каждый год менялась, один год – проводилось КШУ на полковую тематику, а на следующий год – на отрядную (пограничную). Чтобы задействовать всех офицеров-преподавателей на КШУ, формировалось несколько полковых или отрядных управленческих коллективов. На зимних учебно-методических сборах проводились различные зачеты с офицерами, соревнования на лыжах и т. д.
С офицерами учебных дивизионов и преподавателями, проводящими занятия на данном курсе, с участием командования училища, отдельно подводились итоги учебы и дисциплины курсантов дивизиона за учебный семестр или учебный год. Как только прибывали курсанты с каникул или отпусков, так и с ними организовывалось подведение итогов.
После всех этих подведений итогов и проведенных КШУ с офицерами, с 15 февраля 1980 года преподаватели ПМК-4 вступили в последний, 8-й, семестр обучения курсантов 4-го курса. Пришлось настойчиво работать, чтобы подвести курсантов к успешной сдаче государственного экзамена по нашей дисциплине – общая тактика.
Наступил апрель 1980 года. Предстояли опять 3-х суточные двусторонние тактические учения с курсантами 3-го и 4-го курсов.
Так как в боевых действиях в Афганистане участвовали, как войска Советской Армии, так и пограничники, – и действия в основном проходили в горной местности, – начальник пограничного училища решил учения с курсантами проводить в горной местности и с полной выкладкой. Учения планировалось провести с 18 по 20 апреля 1980 года за населенным пунктом Малыбай и проводить их в горах в районе Чунджи, за 230 км от Алма-Аты.
За неделю до этих учений проводилась рекогносцировка местности в районе предстоящих ученый, на которую привлекались все посредники при курсантских подразделениях. Посредники должны были ознакомиться с маршрутами движения поисковых групп, в блокированном районе, с рубежами района прикрытия (блокирования); где должны развернуться боевые действия сторон, то есть ознакомиться с передним краем обороны, где он должен проходить, с рубежами атаки и контратаки и т. д.
Мне на учениях, на первом этапе, предстояло действовать посредником при боевом разведывательном дозоре, который выдвигался на учения впереди колонны на удалении до 10 км. Поэтому, при выезде на рекогносцировку, мне надо было хорошо запомнить маршрут, чтобы не сбиться с пути. До достижения населенного пункта Малыбай, я все время держал рабочую карту в руках и постоянно сверял маршрут, населенные пункты, делал курвиметром промеры расстояний, делал пометки на карте. За населенным пунктом Малыбай начинались горы, там и должны были проходить наши учения.
Преподавателей-посредников нашей кафедры и кафедры службы и тактики пограничных войск на рекогносцировку вывез заместитель начальника пограничного училища полковник Князев. После Малыбая рекогносцировочная группа свернула на полевую дорогу вправо, доехали мы до гор; наша автомашина дальше не пошла, осталась под горами. Мы все спешились, и каждый посредник пошел по своему ущелью, где предполагалось двигаться нашим поисковым группам. И я пошел по ущелью своей поисковой группы, где мне показали по карте. Ведь моя миссия посредника при боевом разведдозоре заканчивалась у подножья гор, за Малыбаем.
При проведении рекогносцировки пришлось долго идти по ущелью, а там оно сузилось так, что идти дальше было невозможно, и вылезти наверх тоже было невозможно, – ведь впереди оказалась стена, а справа и слева крутые склоны под 80 градусов. Пришлось возвратиться мне немного назад, до подъемных склонов, вылезать наверх с этого ущелья и продолжать двигаться дальше поверху, вдоль этого ущелья, до конечной точки рубежа поиска. За пять-шесть часов все посредники достигли конечного рубежа. Я подсчитал: в итоге пришлось пройти в горах 23 км – вот таков в диаметре был район поиска.
Поперек гор ходить нельзя – ведь если идти так, то приходилось бы подыматься вверх на метров 500, а затем опускаться столько же вниз, и дальше шли такие же подъемы и спуски. Поэтому наилучшая экономия сил – идти по ущелью или поверху вдоль ущелья. Во время рекогносцировки нас застал в горах ливень. Плохо было тем товарищам, которые оставили в автомашине свои накидки. А ведь в первой половине апреля очень холодные дожди идут в горах!
И вот начались наши учения 18 апреля 1980 года с подъема по тревоге, в 05.00. Все собрались в установленное время, командиры поставили задачи своим подразделениям и боевому разведдозору – я посредником при нем. В 07.00 тронулась колонна БТР, БМП и автомашин, соблюдая маршевую скорость. БРД впереди, я при нем, следил по карте за маршрутом и действиями командира БРД. БРД мимо Малыбая не проехал, своевременно повернули на полевую дорогу вправо за этим населенным пунктом и доехали до подножья гор, о чем я доложил старшему посреднику по учениям. Личный состав БРД спешился, занял выгодные позиции, замаскировался и обеспечил беспрепятственное развертывание группы поиска; личный состав поисковых групп занял исходное положение и, после постановки им задач старшими, по единому сигналу начали поиск «диверсионной группы» в горах. Поисковые группы к вечеру вышли на рубежи прикрытия блокированного района и остановились на этих рубежах до утра, а ночью поиск велся усиленной поисковой группой по отдельному вероятному направлению. Ночью личный состав заслонов продолжал нести боевую службу на рубежах с использованием сигнализационных приборов. На следующий день, к 10.00, «диверсионная группа» была «уничтожена».
Обед, ужин и завтрак личного состава осуществлялся за счет сухого пайка.
Второй день, и половину третьего дня, личный состав дивизионов занимался двусторонними «боевыми действиями». Учебные дивизионы на учениях были преобразованы в батальоны. 3-й курс (1-й батальон) занимался обороной указанного района, а 4-й курс (2-й батальон) организовывал и осуществлял наступление на обороняющийся батальон «противника». Я был посредником при командире 3-й роты 2-го батальона (4-й курс). Действия батальонов в обороне и в наступлении проходили в соответствии с планом учений. «Воевали» как днем, так и ночью. На этих учениях в горах все вымотались – как курсанты, так и командиры, и посредники то же. В горах, в апреле, было холодно, в окопе – не уснуть. На последних двух этапах учения, будучи посредником при 3-й роте 2-го батальона, под вечер, я вызвал к себе курсанта и поставил ему задачу: «Товарищ курсант, вот здесь, – ройте окоп для стрельбы с колена!». Когда был готов окоп, я курсанта отпустил; на дно этого окопа я собрал и постелил сухую траву. Ночью ложился отдыхать в этом окопе. Уснуть не удавалось: было слишком холодно, но зато ноги отдыхали. Так отдыхали и остальные посредники при подразделениях. Кроме всего, периодически ночью, посредникам надо было контролировать обучающихся командиров подразделений и курсантов. В последние два дня учений питание осуществлялось с полевых кухонь, развернутых у палаток.
Учения были завершены, подведены итоги, личный состав прибыл к своим транспортным средствам и единой колонной, с мерами охранения, выдвинулись к своему училищу.
На 4-м курсе преподавателям предстояло до государственного экзамена отработать темы повторительной (взводной) тематики и принять курсовой экзамен. Перед приемом курсового экзамена по общей тактике с курсантами 4-го курса мы отрабатывали темы повторительной тематики: «Взвод в наступлении», «Взвод в обороне», «Взвод в разведке», «Взвод в походном охранении».
При отработке тем повторительной тематики перед курсовым экзаменом, где-то в середине мая 1980 года, начальник кафедры, на своей закрепленной учебной группе, проводил показное занятие для преподавателей ПМК 4-го курса. Мне помнится, как при отработке динамики наступательного боя взвода, на тактическом поле произошел такой казус.