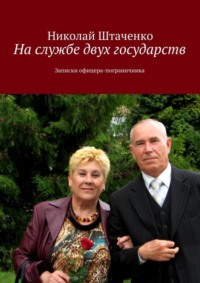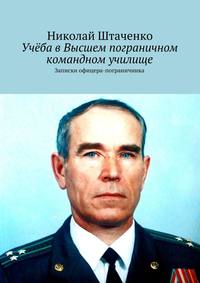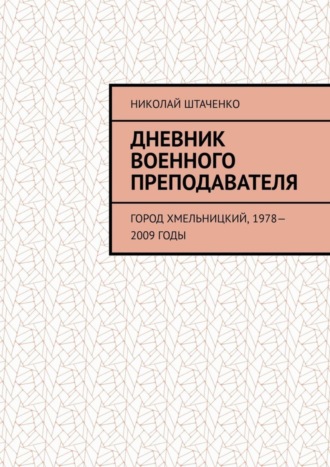
Полная версия
Дневник военного преподавателя. Город Хмельницкий, 1978—2009 годы
После первой пары семинара вышли все на перерыв. Ко мне подошел этот курсант, Коробка Анатолий Николаевич, и обратился: «Товарищ майор, вы скажите, – а разве возможно все это запомнить, ведь мы изучаем больше 50-ти дисциплин?» Я ему ответил, чтобы он не отчаивался и популярно объяснил, что при систематическом изучении и повторении учебного материала, все постепенно отложится в голове, и он твердо усвоит за четыре года весь материал учебной программы.
Самые интересные занятия с курсантами 2-го курса Алма-Атинского ВПКУ бывали в апреле 1982 года, когда с ними отрабатывалась недельная тема: «Взвод в обороне». Занятия начинались в поле с 1-го апреля. Занятия были интересны тем, что всю неделю отрабатывались в опорном пункте взвода, в поле с ночевками.
Тактическое поле для проведения занятий по нашей дисциплине находилось в 2-х км от казарм полевого учебного центра. Там были оборудованы три взводных опорных пункта с блиндажами. Местность там песчаная, поэтому окопы и ходы сообщения были укреплены бетонными плитами. Курсанты эти недельные занятия на втором курсе называли «выживанием». Смотря для кого, было это «выживание». Курсанты находились в окопах только одну неделю, а преподаватели «выживали» там целый месяц, проводя занятия со своими учебными группами.
Ясно, что с 1-го апреля 1982 года первым начинал занятия старший преподаватель курса и проводил эти занятия всю неделю, как показные, для всех своих преподавателей. Выдвижение в полевой учебный центр начиналось в понедельник на автомашинах рано утром. С собой брали солдата-повара, походную полевую кухню, дрова, продукты для приготовления пищи. По прибытию в ПУЦ, мы выдвигались прямо в опорный пункт на тактическом поле; там курсанты размещались во взводном блиндаже, оборудованном деревянными нарами; в указанном месте разворачивали палатку для пункта хозяйственного довольствия. Курсовой офицер размещался в блиндаже с курсантами, преподаватели – занимали, в 200 м в тылу, отдельный блиндаж, в котором стояли солдатские койки.
Начинался апрель, а в отдельных траншеях и ходах сообщения опорных пунктов еще лежал нерастаявший снег, и по ночам было еще холодно. В блиндажах стояли железные печки, которые с разрешения старшего преподавателя могли протапливаться дровами. Но в трубу тепло выветривалось очень быстро. По мерам безопасности, мы, преподаватели, разрешали протопить печку только перед началом отдыха личного состава.
После размещения курсантов, ровно в 09.00, в понедельник, старшим преподавателем начинались показные занятия. Мы, преподаватели, строились на левом фланге учебной группы и наблюдали за проведением занятия старшим, важные методические приемы фиксировали в своих блокнотах.
В первый день занятий – отрабатывалась организация заблаговременной обороны мотострелкового взвода. Старшим преподавателем с голоса доводилась тактическая обстановка, курсанты слушали и каждый наносил ее на рабочую карту; затем старший преподаватель предоставлял курсантам 30 мин. времени на подготовку вопросов организации обороны и ставил задачу быть в готовности, в должности командира взвода, доложить: уяснение задачи, отдать предварительные распоряжения подчиненным сержантам, оценить обстановку по элементам (противник, свои силы и средства, своих соседей, местность, время года и состояние погоды), решение, отдать боевой приказ на оборону, организовать взаимодействие, всестороннее обеспечение взвода и организовать управление в обороне. По истечению выделенного времени, старший преподаватель приступал к заслушиванию курсантов. После каждого заслушивания делал разбор, активно привлекая к этой работе остальных курсантов группы.
Подходило время обеда на полевом выходе; старший преподаватель назначал раздатчиков пищи – по одному курсанту с каждого отделения, которые выдвигались с термосами к пункту хозяйственного довольствия по ходам сообщения и получали пищу на свои отделения. Раздатчики пищи, получив пищу, по команде старшего преподавателя, выдавали ее на позициях отделений личному составу в котелки, чай или компот наливали в крышки котелков. Вот так курсанты в полевых условиях принимали пищу. После обеда, через 30 минут, занятия продолжались еще пару часов. Затем ужин, прием пищи осуществлялся, как и в обед. Преподаватели, естественно, питались не с котелков, но с полевой кухни, используя имеющиеся у повара тарелки.
После ужина – политико-воспитательная работа, которую осуществляли в полевых условиях преподаватели.
Перед наступлением темноты, старший преподаватель назначал состав дежурных огневых средств, которые немедленно занимали свои огневые позиции, и доводил порядок действий взвода при нападении противника ночью. Порядок действий взвода в обороне ночью, по расчету, был таков: 1/3 личного состава – отдыхала в блиндаже, а 2/3 – находились на позициях отделений. Через каждые 2 часа происходила смена. Контроль, за боевым дежурством личного состава в ночных условиях, осуществляли курсовой офицер и преподаватели. Мы ложились на отдых ночью в своем блиндаже. Под одним одеялом было холодно, поэтому накидывали на себя и шинели, но все равно замерзали. Без рюмки 40-ка градусной согреться было трудно. В ночных условиях, с помощниками, преподаватели организовывали вооруженное нападение на обороняющийся взвод. Так что в обороне ночью спокойно не было.
Во второй день занятий – отрабатывалась динамика оборонительного боя методом группового упражнения.
На третий день занятий – организация обороны в непосредственном соприкосновении с противником.
На четвертый день – отрабатывалась динамика оборонительного боя методом группового упражнения.
На пятый день – подготовка к боевым стрельбам взвода в обороне: организация обороны, занятия по мерам безопасности и прием зачетов, занятия по управлению огнем и подразделениями в обороне, подготовка оружия к боевым стрельбам.
На шестой день (суббота) – боевая стрельба взвода в обороне. И в 15.00 – возвращение в училище на основную базу.
Во второй день полевого выхода, при отработке динамики оборонительного боя, в учебной группе майора Андреева В. А. случилось чрезвычайное происшествие. В учебной группе учился курсант Абаев (татарин по национальности) и он совершил грубое нарушение мер безопасности на занятии.
Перед началом динамики оборонительного боя майор Андреев В. А. раздал курсантам имитационные средства, предварительно дав инструктаж по мерам безопасности. Раздавая курсантам имитационные средства, майор Андреев, наряду с выдачей другим курсантам, выдал и курсанту Абаеву два-три взрыв-пакета. Поджигая и бросая взрыв-пакеты, курсант Абаев решил проверить действия взрыв-пакета, зажав его в ладони и удерживая при взрыве. В результате взрыва – ему разворотило мякоть ладони. При его опросе о причине травмы, он ответил, что «решил проверить, что будет?» Его немедленно, с курсовым офицером на автомашине, отправили в медицинский пункт.
После показных занятий, со следующего понедельника, преподаватели начинали недельные полевые выходы со своими учебными группами: с первой закрепленной группой, затем со второй, а если закреплено три группы, то и с третьей. Таким образом, весь апрель месяц проводили занятия с курсантами в поле, в опорных пунктах.
В мае 1982 года, после лекций и семинаров, на 2-м курсе проводились с каждой учебной группой 3-х дневные полевые выходы для отработки практических занятий по теме: «Взвод в сторожевом охранении».
В июне – отрабатывались в полевых условиях практические занятия по теме: «Взвод в разведке», такие занятия как: «Взвод в поиске», «Взвод в засаде», «Взвод в налете». На каждое занятие выделялось по 6/4 часа. Это значит 6 часов днем и 4 часа ночью.
В июле 1982 года проводился курсовой экзамен по дисциплине общая тактика. Теоретическая часть экзамена осуществлялась в первый день экзамена в течение 6 часов в классе ПУЦ по билетам; практическая часть – проводилась на тактическом поле. В практическую часть включались все виды боевых действий мотострелкового взвода и обеспечение боевых действий.
В первых числах сентября 1982 года я вышел на работу после отпуска. Курсанты нашего учебного дивизиона перешли на 3-й курс. На 3-м курсе мне было работать совсем легко, так как я знал и программу, и методику проведения занятий на 3-м курсе. Ведь я начинал свою педагогическую деятельность в училище с 3-го курса. К тому времени (к сентябрю 1982 года) я приобрел 4-х летний педагогический стаж, – за четыре года прокрутил полностью всю программу обучения по дисциплине общая тактика.
Состав преподавателей ПМК на 3-м курсе не претерпел изменений. Курсанты 3-го курса, по учебному плану, готовились с 10 ноября на войсковую стажировку, которую предстояло проводить на учебных пунктах пограничных отрядов. Поэтому перед выездом на стажировку по всем военным дисциплинам отрабатывались методические темы с целью подготовки курсантов в методическом отношении. Весь сентябрь 1982 года, по нашей дисциплине, шла отработка методических тем.
Наступил октябрь 1982 года. Числа 15 октября 1982 года меня вызвал начальник кафедры подполковник Таратута П. В. и сообщил, что, по плану политотдела училища, я командируюсь на 10 дней в Нарынский пограничный отряд (Киргизия) для пропаганды решений последнего Пленума ЦК КПСС на пограничных заставах. Я удивился: ведь я не политработник, чтобы меня посылать для пропаганды решений Пленума ЦК КПСС. Но таково решение политотдела училища: кого-то из преподавателей боевой кафедры решили послать для пропаганды.
Получил я в отделе кадров командировочное удостоверение, в финансовом отделении – требования на самолет туда и обратно. Немедленно отправился на аэровокзал за билетом. Билет взял. Собрал необходимые материалы по Пленуму ЦК КПСС для проведения занятий на заставах, собрал себе портфель с вещами и в указанное время прибыл в аэропорт.
С Алма-Аты до г. Фрунзе летел на АН-12; во Фрунзе пересел на самолет ЯК-40 и долетел до областного центра Киргизии г. Нарын. По прибытию в пограничный отряд, доложил начальнику отряда и начальнику политотдела. А до застав с отряда добираться очень далеко. Ближайшая застава от отряда находилась в 100 км. Заставы там все высокогорные, поэтому никого из политработников в училище и не нашли, чтобы послать в этот отряд.
Как и с кем же мне пришлось добираться до пограничных застав?
На 4-ю пограничную заставу ехал с разведотдела отряда майор (киргиз), его фамилии уже не помню. Ехал он на УАЗ-469, и я подсел к нему. Рано утром выехали с Нарына, проехали километров пять в сторону границы, – и закончились все населенные пункты. Ехали все время под гору, дорога гравийная, местность пустынная, среднепересеченная, ни одного дерева, ни справа, ни слева. Проехали километров 50, смотрим: слева в 1,5 км стоят три юрты и выпасается стадо баранов. Майор-разведчик мне сказал: «Это – последние юрты, дальше, до самой границы, не будет ни юрт, ни селений. А ехать еще до заставы не меньше 50 км», – и предложил мне заехать к юртам.
Подъехали к юртам; там чабан со всем своим семейством (киргизы) выпасают большое стадо баранов. Встретил нас хозяин радушно; зашли мы в юрту; хозяин расстелил на пол достархан и поставил полулитровую бутылочку водки, приберегаемую для важных гостей. Зашла хозяйка (его жена) поставила молча на достархан еду (лепешки, шурпу), затем принесла кипящий чайник и три пиалы. Мы долго сидели и о жизни чабанов рассуждали; хозяин все в наши пиалы водочку подливал и подливал. Затем хозяйка принесла сваренного в собственном соку 2-х месячного барашка. Ели с лепешками этого барашка – мясо просто таяло во рту. Так просидели мы, ведя разговоры, часа три. Но нам надо было ехать на ближайшую пограничную заставу. С хозяином мы распрощались, поблагодарили за гостеприимство и поехали дальше.
По прохождению многих лет, я часто вспоминал наше посещение этого чабана-киргиза и не только его, но и угощения туркменов. Живя очень далеко от населенных пунктов, он в своей юрте приберегал для важных гостей спиртное, а при их появлении, радушно их встречал и бескорыстно угощал. Мы заехали к чабану – совсем не знакомые ему люди – и встретил он нас радушно, с угощеньем.
Мы продолжили свой путь на автомашине с майором из разведотдела. К вечеру прибыли на заставу. Застава была двухэтажная. Мы поднялись в канцелярию к начальнику на 2-й этаж, сердце колотилось и выскакивало из груди: было такое ощущение, что я как будто пробежал кросс не менее 3-х километров. Оказывается, мы находились на заставе на высоте 4 тыс. 200 метров над уровнем моря. Там кислородное голодание. Вода с мясом кипят при температуре +80 градусов. И что особенного, – чтобы сварилось, надо чтобы кипело мясо часа два-три. Физическая подготовка на высокогорье не проводилась – и при проведении инспекторских проверок застав – не принималась. Лычный состав застав потихоньку втягивался и, самое большее из физических нагрузок, – играли в волейбол.
Я чувствовал себя в высокогорных условиях, как в дурмане, голова была свинцовая, в ушах звенели колокольчики. Офицеры, прослужившие там по нескольку лет, говорили, что заезжать на высокогорье надо под градусами, – так легче переносится.
На 4-й пограничной заставе граница проходила высоко по водоразделу хребта. Местность, в районе дислокации заставы, была похожая на высокогорное плато, среднепересеченная. Водилось там много сурков и хомячков. Хомячки прорывались норами в помещения заставы.
В установленное время, в течение одного часа, я провел на этой заставе свое занятие, о чем сделал запись в журнале политико-воспитательной работы. Позвонил на соседнюю, 5-ю, заставу, и за мной начальник 5-й заставы прислал автомашину ГАЗ-66, на ней я доехал до заставы. Личный состав заставы был к этому времени собран, и я провел свое запланированное мероприятие. На 5-й пограничной заставе был начальник штаба пограничного отряда, он ехал на 6-ю заставу и захватил меня с собой на своем УАЗ-469. До 6-й заставы ехали километров 16. Мы проезжали мимо большого озера размером (6 на 8) км, которое располагалось на высоте около 4 тыс. метров. Начальник штаба мне поведал, что оно мертвое, – там не водилась никакая живность.
Перебираясь с заставы на заставу, я выполнял свою задачу. Питался и ночевал на заставах. Таким образом, время подходило к окончанию моей командировки. Билет на самолет, на обратный путь, я приобрел еще до выезда на заставы, на 25 октября 1982 года. Поэтому я был спокоен.
Проблема была с возвращением в пограничный отряд. До отряда было более 100 км, а попутного транспорта с последней заставы не было. 23 октября 1982 года утром с соседней заставы в отряд отправлялся ЗИЛ-130 с прапорщиком, поэтому меня вечером отправили на ту заставу. Рано утром я выехал с старшиной заставы на ЗИЛ-130 и за четыре часа мы с ним доехали до г. Нарын. Сам г. Нарын – областной центр Киргизии, располагался в большом ущелье. До Нарына летали с г. Фрунзе только ЯК-40, и еще ходило рейсов шесть автобусов. Офицеры говорили, что если появлялись над Нарыном облака, то случалась нелетная погода. В то время в стране был энергетический кризис, было очень тяжело с бензином. Оставался один день до моего отлета; я в отделе кадров сделал отметки в своем командировочном удостоверении.
25 октября 1982 года мой рейс (ЯК-40) отправлялся по расписанию в 08.30. Утро в Нарыне в тот день выдалось пасмурное, посмотрел я на небо – было затянуто облаками. У меня в душе появилась тревога, и не зря. К 07.30 я прибыл в аэропорт, он был от отряда совсем недалеко; мне там сказали, что погода нелетная, Як-40 с Фрунзе не прилетал и в такую погоду не прилетит. Я посмотрел вверх на облака, и вокруг себя увидел, что падают редкие снежинки. Не теряя времени, я приехал на автостанцию, надеясь уехать до г. Фрунзе автобусом. Но оказалось, что из шести рейсов был только один, который уехал в 06.00 и больше ни одного не будет. Я возвратился в отряд и там узнал, что через полчаса с пограничного отряда, в г. Фрунзе, будет выезжать на УАЗ-469 начальник политотдела с офицерами на партийную конференцию, которая будет проходить в пограничном округе (в г. Алма-Ата). До Фрунзе в ОВО (оперативно-войсковой отдел) они собирались доехать своим ходом на легковом автомобиле УАЗ-469, а с Фрунзе до Алма-Аты, – городским рейсовым автобусом. Снег на улице начал усиливаться, тут о полете самолетом и речи быть не могло. Билет на самолет я и не пытался сдать – брал я его по требованию.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.