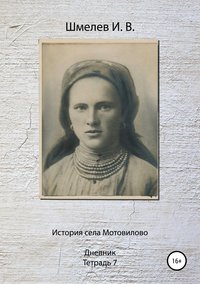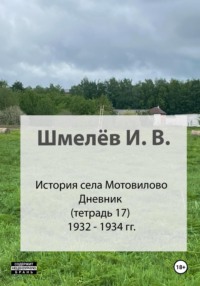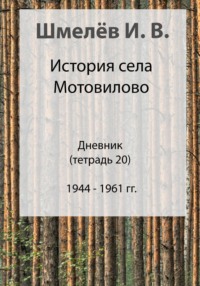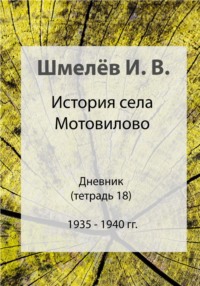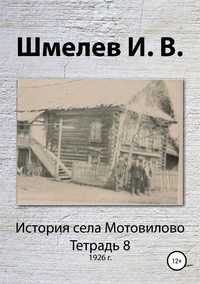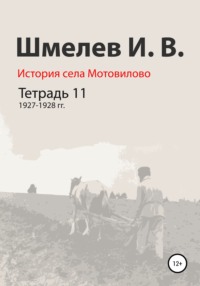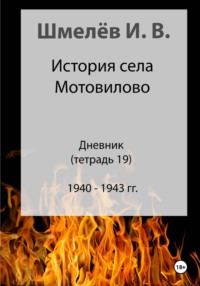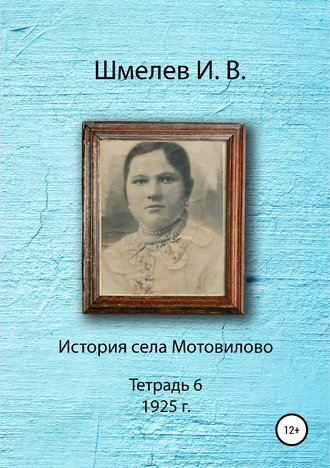 полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
– Едва вырвалась поговеть-то, – начала жаловаться Евлинья, – впрягли меня за ребятишками присматривать, вот и няньчийся тут с ними, а их целая куча. А самовольники – не приведи Господи! То жрать, то спать, то срать…
– А мне, ночесь, виденье наяву было: утрось иду я по улице, а за мной собак целая стая бежит, должно быть, «сучья свадьба», так я перепугалась, что едва молитву и выговорила, а то бы могли они меня закусать до смерти! Я и баю нашему Паньке, гляди, мол, как бы на тебя не напала такая сучья свадьба, ведь ты везде по улицам-то шлёндаешь! Не ровен час – нападут, от них не скоро-то не отбояришься! – высказала бабушка Дуня о своей встрече с собачьей сворой.
– Оне с нашим-то Ванькой любую сучью свадьбу разгонют, – высказалась и Евлинья. Дорогой старухи вспомнили и о своей молодости:
– Бывало, мы со своим Ефимушкой частенько в город на лошадке езживали, любил покойничек в город ездить и меня с собой прихватывал, а в городе-то, бывало, калачом угощал, медку покупал, крендельками баловал. Не жизнь была, а малина! – с самодовольством известила Евлинья подруге Дуне.
– Между прочим, мой-то Василий нынче именинник. Он как раз родился двадцать второго марта в день «Василий, выверни оглобли!» – известила Дуня.
– Ну, мой-то в молодости был тоже хорошо. В старину-то он не раз езживал с извозом, и большинство все в Урюпин. И вот однажды, вернулся он оттуда с одним кнутом. В дороге напали на него разбойники, он и погнал от них лошадь-то во весь упор. От разбойников-то угнал, а лошадь совсем запалил. Пришлось, как он баял, лошадь-то продать в одной деревне, а то бы все равно она домой-то не дошла. В ту пору гляжу, а он вкатывается в избу, а в руках кнут и пьянющий, едва на ногах держится. Я спрашиваю его, а где лошадь-то? А он мне отвечает: «Вот, говорит, Овдотья, возьми этот кнут и исхлещи его весь об меня. Виноват перед тобой, лошадь продал, деньги проиграл!». Я так и ахнула. С тех пор он в одиночку в дорогу пускаться стал побаиваться, потому что по дорогам везде разбойники пошаливают.
На вербной же неделе под надзором бабушек отговели и три друга: Панька, Санька и Ванька. На исповеди их спросил поп:
– А «верую» то знаете?
– Знаем, только в разнобой не можем, – за всех ответил бойкий на язык Санька.
– Ну, почитывайте «Закон божий», и все молитвы знать будете, – напутствовал им поп, – Отца с матерью почитайте, старших слушайтесь, зря не смейтесь, по садам не лазайте! – для пользы дела добавил он.
По вечерам бабушка Евлинья дома, распевая священные стихиры, поучала и своих внуков. Она на память пела «Совет предвечный», «Врата адовы», «Житейское море», «Верую», «Отче наш», «Архангельский глас» и другие.
По летам Евлинья выходила на улицу и молилась на восток, говоря: «Живой Бог находится именно там, на восходе солнца». Бабушка не считает за большой грех в посте накормить, украдкой от сына и снохи, внуков сметаной, во время, когда она принимается мешать в горшке топленую вкусную сметану, сбивая ее в масло.
На Страстной неделе подготовкой к Пасхе все люди взялись вовсю генерально мыли избы, протирая потолки и стены хвощом, обклеивали стены обоями, белили печи. Участились поездки в город за покупками, за обновами к радостному Годовому празднику Пасхе. Кто на лошадях, а безлошадники уходили на станцию Серёжу и там садились в поезда, ехали в Арзамас машиной. Раньше всех весна наступает на железной дороге: рельсы, шпалы и все песчаное полотно дороги в начале марта освобождается от снега, и тут раньше всех запахнет весной. А в апреле, глядишь, и совсем завесенеет: снегу остается только кое-где, на освободившейся от снега дороге протаптываются первые тропинки. Растаявший снег превращается в холодную воду, которая заливает все овраги и впадины. Трудно в такую пору всем зверькам, муравьям и жучкам. Их норы залиты талой водой. Но вот такая сила у живой природы: как только вода схлынет в ручьи и речки, и лесные полянки освободятся от воды, глядь, а в лесу уже пискляво зазвенел комар, а вскоре их появится целые полчища. И откуда только берется эта надоедливая скоту и человеку вредная тварь?
Сани меняются на телеги и шапки на картузы, шубы на легкие пиджаки. У Савельевых подготовка к Пасхе идет полным ходом. Избы обе вымыты до блеска, теперь идет обклейка верхней избы обоями. В обклейке стен обоями занята вся молодежь: Минька примеряет и приклеивает, Санька намазывает обои клейстером, Ванька ножницами ровно обрезает кромку. Весь «великий четверг» был занят обклейкой, а наутро в пятницу, когда обои пообсохли, все собрались в верхней, чтоб порадоваться красотой и уютом избы, которую после побелки печей, в обстановке крашеных самодельных диванов, стульев и шкафа, и льняной подвески на окна, коротеньких с кистями занавесок и расстилом жаккардовой скатерти на столе, не грех назвать и горницей.
– Где уж ты успел так выбелиться-то, погляди-ка, весь пеньжак в белилах! – испостившись за пост, обозлено прикрикнула Дарья на сына Сергуньку.
– Да я сейчас был у Савельевых, а у них печь выбелили, я нечаянно и прислонился к ней, – наивно оправдывался он.
– Поди во двор и выбей пеньжак-то хорошенько, весь изваландался, как домовой, – ворчала на него мать.
Вечером во время службы и чтения двенадцати Евангелиев, почти вся семья Савельевых была в церкви. Ванька, как обычно, с отцом стоял в это время на левом клиросе. Отец заметил, что Ванька не так часто кладет поклоны, а все норовит время проводить в детских разговорах с Васькой Дидовым, повелительно нагнул Ванькину голову вниз, проговорил:
– Поклонись! Не бойся лишний раз нагнуться, что словно аршин проглотил!
А когда Ванька светил свечей, во время пения клироса по книге и нечаянно выронил из руки свечку, отец долбанул его тычком кулака по затылку. У Ваньки от удара посыпались искры из глаз и зазвенело во всей голове, но плакать и оправдываться не велено – не плошай и не наводи на себе напастей.
Пасха. Торжество, хороводы (19.04.1925)
– Христос воскрес! – громогласно провозгласил Ванька, возвратившись домой от обедни в Пасху.
– Воистину воскрес! – с ликующим торжеством ответила ему домовничающая с Володькой и Васькой во время пасхальной службы бабушка Евлинья. – Вот и до Святой дожили, до светлого Христова Воскресения! – с радостью в голосе добавила она. – Праздничек-то великий какой, в Пасху и Благовещение пичужечки даже гнезда себе не вьют! – продолжая подчеркивать величие праздника, провозвещала она.
Вскоре из церкви пришли и остальные. Василий Ефимович, похристосовавшись с матерью и раздевшись, стал хлопотать о выпивке перед обедом. У него было правило, в большие торжественные праздники, перед обедом, он сам выпивал и подчивал остальных из семьи, исключая малых детей, но Ваньке тоже предлагал. Семья уселась за столом. На стол подала крашеные яйца и в большую семейную эмалированную чашку жирных, со свининою щей. Кошка, зачуя в мясной запах, подъеренилась к столу, ухмыляясь, ожидала лакомства. Ей бросили мосол, она им зашумела под столом.
Поздравив с великим праздником, Василий как хозяин и глава семьи, выпил первым, потом он поднёс традиционный стаканчик водки и остальным. Разгоревшись, закусили яйцами, принялись за горячие щи, за щами, после, давала картошка с салом, потом каша пшенная, за ней каша дикушная, а там лапша, за ней яичница, а сверх всего ватрушки с топленным молоком. Обедали долго, пасхальный разговор не умолкал за столом, всем хотелось поделиться о торжественной службе в церкви. Ванька высказал свое восхищение о красивых ракетах, пускаемых во время обхода вокруг церкви, встречая Воскресшего Христа. Санька упомянул о произведённом взрыве перед началом крестного хода. Сам Василий с похвалой отозвался о торжественном пении правого клироса во главе с Романом Додоновым. Только малыши Володька и Васька, слушая старших, молча ухобачивали за обе щеки вкусные пасхальные яства, громко стуча новыми, обновляемыми за этим праздничным обедом, ложками.
Между тем, на улице только что начинался рассвет. По традиции пасхальная обедня всегда отходит затемно, с улицы слышится «Христос воскресе из мертвых». Это нищие под окном просят праздничную милостыню. Открывается окно, и им подаются пироги и крашеные яйца. С колокольни слышатся торжественно-ликующего пасхального трезвона, это неугомонный и всем угождающий Трынок искусно вызванивает вперебор во все семь колоколов. Он до того наблошинился в этом деле, что мастерски научился колоколами вызванивать «Благовествуй земле радость великую, хвалите небеса божию славу!»
После обеда, как правило, старшие ложатся отдыхать, а парни в первую очередь слазить на колокольню. Оттуда особенно хорошо наблюдать за восходящим солнцем, которое переливаясь, «радостно играет». Умеющие трезвонить, назвонившись досыта, удовлетворённо слезают с колокольни, после них остаются «неумелы», которые, позвонив вразнобой, начинают дурачиться и балабанить во все колокола кто во что горазд.
Нарядно разодетая публика с чувством ликования и торжества непринуждённо разгуливается по улицам села, христосуются меж собою, взаимно вперекрест целуются и одаряют друг друга традиционным окрашенным яйцом. Неугомонные ребятишки, разуряженные в обновки, торопливо бегают по селу, они обходят дома своих родни. Запыхавшись от беготни, провозглашают «Христос воскрес!» и, получив яйцо, топотно выбегают из дома. Радости, торжества и ликования у народа, особенно у детворы, нет предела! Дети, встречаясь на улицах, всю Пасху хвалятся друг перед дружкой. Кто сколько набрал яиц, у кого какие обновки. Колокольный трезвон не прекращается всю Пасху, а она длится всю неделю. За это время редко кто не побывает на колокольне.
Каждый день села в Пасху посещается священством, служится пасхальный молебен в сопровождении скороговорной службы ирмосов, богоносцами. Для забавы молодежи, парней и девок, на улицах села устраивается рели, качели для увеселительного катания, во время которого боязливо и пронзительно визжат пугливые девки. Парни, которые повзрослее, затевают игру в лапту, умелым ударом палкой некоторые далеко забивают резиновый мяч. Некоторым малышам знатоки «показывают Москву», ухватив паренька за уши, приподнимают его, обращая в ту сторону, где, по их мнению, находится столица. Мальчонка от боли ревёт, но зато наглядится на Москву. Там, в стороне, неугомонная ребячья «сойма-гавша» с криком и воем свалившись в груду, играют в «кучу-малу», а там затеяли играть в прятки. Васька Демьянов полез прятаться за бревна и вскоре он поспешно выскочил оттуда, словно там увидел он буку, весь испачкавшись. Какой-то дурак верзила навалил за бревнами кучу, Васька, растревожив ее, обмазался и вприпрыжку побежал на озеро отмываться.
В Пасху, в этот весенний самый радостный праздник блаженного отдохновения, который продолжается восемь дней, больше всего привлекает к себе церковь. Сама по себе, по своей архитектуре, величественности и красоте, она красавицей высится над селом – высотность колокольни и широченный купол летнего храма каждого привлекают к себе.
В субботу, перед радоницей, Ванька залез на колокольню, от колокольного гуда звенит в ушах, кажется, голова наполнена каким-то тяжёлым, вязким грузом. Ванька мечтательно подошёл к восточному окну и стал осматривать причудливую красоту летнего храма. Он заметил на карнизе, притулившись к стене, растёт маленькая берёзка, видимо, ветром занесло сюда зрелое семечко, попало оно во влажное место щели полуразрушенного кирпича, произросло, пустило корни и растёт себе, никому не мешая. Ванька с высоты так же увидал, как сильный ветер, нахлынувший на стоявшую у подножия колокольни ветлу, с остервенением обрушился на нее и сшиб с ветвей старое грачиное гнездо. Гнездо стариковской лохматой шапкой покатилось с дерева, упало на землю. Всполошённые грачи с гвалтом вспорхнули из своих гнёзд и долго беспокойно летали вокруг церкви. Среди отдалённых деревьев и крыш построек Ванька с довольной улыбкой отыскал свой двухэтажный родной дом. Потом он взор свой перевел на озеро. Под действием тепловатой воды, прибывшей из поля от «Рыбакова», лёд на озере кругом пообтаял, образовались большие и широкие закраины. Теперь вся масса иссиня-белого ноздреватого льда, гоняемая ветрами, свободно плавает по озеру из стороны в сторону, обречённо ожидая своего рокового дня, когда он под действием солнца совсем дотает.
Ванька перешёл к северному окну колокольни. Его взору представился вдали лес и приближенное поле, колоритно отличающиеся друг от друга. Перед глазами раскинулся широкий кругозор окрестности: кругом поля, кругом леса, кругом приближенные и отдалённые села. Горизонт за дальними, в просини, лесами и эта вся величественная картина покрыта нежно-голубым куполом неба. Вон в поле табун скота пасется, вон толпы парней и девок, разодетые в разноцветье рубах и сарафанов, идут в лес гулять, а парни помоложе жениховой поры идут в лес не только погулять, а попутно там набрать в кувшин берёзового сока из подсеченной берёзы, а девки лакомятся весенним даром природы, щавелем.
Ванька снова перешёл к восточному окну и устремился взором вдаль. В конце улицы Курмыш он увидел небольшую толпу богоносцев с хоругвью, заканчивающую обход села с пасхальным молебном. Вдали ему представилась пологая брюховина горы с пуповиной-колодцем, а ближе на подбрюшьи, как лонова прорезь, исток «Рыбаков», поросший орешником, ясенем, кленом, а еще ближе, как пояс, полоса «Большой дороги». На взгорье, на обочине большой дороги, одиноко стоит помилованная топором одинокая берёза-старуха. Она стоит в Екатерининских времен, исковерканная молнией и бурей, омытая буйными дождем и градом, придавленная морозами, облупленная и обскоблённая колёсами и осями проезжающих вблизи телег, потяпанная топором немилосердной рукой пахаря, с выжженным дуплом из озорства пастухами, а она устойчиво стоит и караулит поле горделиво. За свои дести лет она много чего перевидала на своем веку. Сколько птиц усаживалось на ее могучих кустах и сколько мелких пташек угнезживалось в ее раскидистой кроне, сколько проезжих людей она перевидела, сколько путников она укрывала своею сенью от проливного дождя и от жгучих солнечных лучей во время дневного зноя. В летнюю пору сколько землепашцев, косцов и жнецов обедало под ее шелестящей листвой, кроной и блаженно отдыхало в ее благодатной тени в час послеобеденного отдохновенья. Вдали за Рыбаковым Ванька заметил толпу мужиков, ходивших по полю и деливших землю по вытям. Еще вчерашним днем пахнул ветерок с южной стороны, прошёл теплый весенний дождичек, прогремел первый гром, разбудивший лягушек и показавший мужикам, что пора делить землю, и пора выезжать в поле, пахать и сеять ранние яровые культуры: овес, вику и горох.
Наступила Радоница, последний день Пасхи. Люди весь день проводили в наслаждении блаженного отдыха и веселья. Иван Федотов, досыта отдохнувший за неделю, в Радоницу не усидел дома, он, озабоченный состоянием озими, решил сходить в поле и осмотреть свои загоны, попутно и подметать их. Будучи в поле, Иван решил так же определить состояние земли: когда можно будет выезжать на пашню. Он с этой целью, нагнувшись, взял горсть земли, помял ее в своих ладонях, из земли получился лоснящийся прозернистостью маслянистый, черный скатыш. Он руки сравнял на высоте своего пупка, разжал пальцы – комок упал на землю и не развалился.
– Еще рановато пахать, земля еще не поспела. Надо подождать денек-другой, а там уж и с Богом! – про себя решил Иван. Обойдя все свои загоны с озимью, подметив их своею метой, он к вечеру вернулся в село. У окна своего дома его встретил сосед Василий Ефимович, спросил:
– Куда это ты ходил? Вроде бы ты, я вижу, усталый?
– Ходил в поле, загоны с озимью проведать. Надо бы давно сходить, а я на Пасхе-то заленился, – ответил Иван.
– Ну и как, озимь еще не пошла в рост?
– Все бы ничего, да у одного загона середина вымокла, вся низина голая, знаешь, там болотина около Ендовина, а так, озимь хорошая. На бугорках, на припёке в рост тронулась – будем с хлебом!
– Год-то, должно быть, будет урожайным?
– Это как сказать. Первый гром на голые деревья – к неурожаю! – сокрушённо объяснил знающий, разбирающийся в приметах Иван.
– А пословица говорит: «Снег глубок – урожай высок!», – возразил Василий, – его нынче за зиму-то вон сколь навалило!
– Это бы, дай Бог, поживём – увидим, еще какой май будет. Если май холодный – будет год хлебородный!
– Ну, а как земля-то, поспела для пашни, ай нет? – спрося Ивана, поинтересовался Василий Ефимович.
– Нет еще, сыровата, лишняя влага из нее не вышла. Лошадь будет вязнуть, да и плуг будет засираться. Вот денька через два можно будет и пахать, благословляться, если, конечно, дождя не будет, – удовлетворённо улыбаясь, изрёк Иван.
– А в Рыбакове я издалека заметил, еще небольшой бугор снега лежит, – спохватившись, добавил он.
– Это, должно быть, в тени, – заметил Василий.
– Знамо, не на голом месте, в затине, под большим вязом, – уточнил Иван.
– А землю-то, по вытям-то, видать, вчера еще разделили, – осведомил Василий Ивана.
– А кто от нашей-то выти делил? – спросил Иван.
– Гришка Лаптев, он баил, разделили. Значит, нам надо собраться и завтра идти делить между собой, – предложил Иван.
– Так и сделаем, – согласился Василий.
К вечеру этого дня голосистей заурчали в озере лягушки, появились целые полчища толкущихся в суматохе комаров, полетели майские жуки, беззвучно в вечернем воздухе мельтешились летучие мыши. Ребятишки с детским весёлым азартом, с метлами в руках, топотно бегая, гонялись за майскими жуками.
А вечером того же дня на перекрёстке около дома Дунаева собралась нарядная толпа народа, стали водить хоровод. Молодые бабы, девки, да и парни с ними, уцепившись за руки, образовав большой, во всю площадь, круг, пели песни-веснянки, начиная с традиционной песни «Дунай, мой Дунай». Под голосистую гармонь неоднократно пели любимую народную песню «Коробушку», в которой воспевается красота русского пейзажа, удаль молодого купца, красота деревенской девушки и прелесть взаимной любви. Ребятишки, взбалмошно играя, бегали вокруг хоровода, толкали девок, пугали их светящимися гнилушками – «мышиным огоньком», в вечернем сумраке изображая из него рожки черта. Девки пугливо визжали, боязливо шарахались в стороны. Всю эту ночь, почти до утра, молодежь – парни-женихи со своими невестами гуляли на улице. Хоронясь от людских глаз, влюблённые парочки притаённо объяснялись в любви, договаривались о засватании, а чтоб скрепить взаимную клятву, некоторые пары, сцепляясь во взаимных объятьях, целовались. Неугомонная молодежь, подзадоренная весенними напевами природы, в эту ночь долго колобродничала по селу и расходилась по домам, тогда, когда пастух протрубил в дудку, призывая домохозяек к дойке коров и к выгону скота в стадо.
Земля – поле. Дорога. Карета Семиона
Хозяева всей земле в селе – народ. Село Мотовилово разделено на два общества: Шегалев – одно общество, остальная часть села – другое. Место, где стоит церковь – межа между обществами. Непосредственный исполнитель власти в обществе – выбранный народом «уполномоченный», который исполняет волю народа и подчиняется сельскому совету и ВИКу, который утверждает или снимает уполномоченного. Для равномерного распределения пахотной земли по едокам общество делится на выти, в которые входят несколько хозяйств, и каждая выть состоит из определённого и равного количества едоков. Ввиду того, что численный состав жителей села (едоков) ежегодно меняется (молодые нарождаются, а старые умирают), молодежь, образуя свои семьи, выделяясь из больших семей, создают новые хозяйства с определённым числом едоков, поэтому-то и приходится пахотную землю ежегодно снова переделывать. Исстари в народе такой обычай, извечно в селе такая традиция.
Пахотная земля в полях распределяется среди жителей села только по числу едоков в хозяйстве. Большая семья получает больше земли, малая семья меньше земли. Но ведь земля-то разная по близости от села и по плодородию: вокруг села (однодворица) – жирна и урожайна, плодородный чернозем, а за Большой дорогой земля плохая, илистая, она требует навоз, но он из-за дальности туда почти не вывозится. В поле земля поэтому распределяется более или менее равномерно, и для каждой выти земля наделяется в нескольких местах.
Накануне Радоницы мужики разделили землю по вытям, а в понедельник уговорились делить ее по хозяйствам. Сначала мужики поле обошли так, чтоб ознакомиться с землей, где какая досталась, а потом, посоветовавшись меж собой, приступили к дележу. Каждый для себя изготовил жребий, поставив на нем свою мету. Иван, сняв с головы шапку, с весёлой усмешкой на лице прикрикнул: «А ну, бросай жребий в шапку!» Все дружно побросали. Все приутихли. Каждый притаённо ждал для себя счастья в делёжке.
– Тяни, Ромк, кому достанется первому нарезать загон, – скомандовал Иван, с довольством улыбаясь и тряся шапкой в руках, тряся своей козьей бородкой. Первый жребий Ромка вытащил из шапкой с метой «Н»:
– Крестьянинова! – громко провозгласил Василий Ефимович. Федор, с недовольством поморщившись, сокрушённо протянул:
– Я так и знал, что эта земля с плешиной посредине мне достанется.
– Видно, такое счастье тебе, вишлитвоюмать-то, – захихикал Иван, – Жребий не судья, а справедливый рассудитель. Раньше по жребию в солдаты уходили! – с той же весёлой улыбкой балагурил Иван.
Второй жребий пал Трынкову, третий Савельеву, с метой «Г» (полоз), потом Федотову «S» (крюк), а там и остальным.
Весь день мужики проделили землю, проделывали прямые межи, идя на живые вешки на другом конце помера, делая лопатой копки, шаркая лаптями по прозимовавшей под снегом стерне. Оголенные от снега, потрескавшиеся от давящих морозов, облизанные буйными ветрами бугорки и пуповины земли, и все поле под воздействием теплого солнышка благоухало. Напоенная живительной влагой земля звала к себе пахаря и сеятеля, чтоб взрыхлённую плугом черную грудь принять в себя зерно, которое в земле спервоначалу умрет, а потом возродится в обильном урожае. Издревле поле проходит свой невидимый кругооборот: то оно черное, только что вспаханное плугом, то зеленеющее всходами, то золотится зреющими или сжатыми хлебами, то в зимнюю пору укрыто белой снежной пеленой. Когда в поле становится необъятный простор, снег да ветер, и так пустынно, что глазу не за что зацепиться. А теперь, весной, стаял с полей снег, схлынули с земли лишние талые воды, на припёке запарилась земля, потекло по земле струистое марево, зазвенели в высоте поднебесья жаворонки.
В поле пробудилась жизнь, вылезли из нор суслики и кроты, по-весеннему заработали в земле червячки и жучки, разрыхляя почву и разнося по ней полезные для урожая вещества, своим трудом помогая крестьянину-землепашцу. Теперь настало время, дело за самим пахарем.
Мужики, разделивши землю, уговорились завтра выезжать в поле пахать и сеять. Во вторник, на фоминой неделе, с утра выдался хороший, по-весеннему теплый денек. По небу плыли летней формы кучевые облака. Сидя на голых ветвях ветлы, трепыхая крылышками, с присвистыванием пели скворцы. Один заботливый скворец старательно чистил внутренность скворечника, выгребая и выбрасывая из него прошлогодний мусор.
Санька Савельев еще вчера предусмотрительно изготовил двухэтажную скворечницу и карандашом сделал на ней разграничительную наивно-шутливую надпись: первый этаж для скворцов, второй для воробьёв. Санька спозаранку со скворешницей вскарабкался на высокую берёзу, росшую в пробеле, и пристроил ее там, обеспечив новой квартирой птиц. Слезши с берёзы, Санька попутно напился сладкой берёзовки из бутылки, подвешенной на сломанный сучок этой берёзы.
Перед выездом в поле на пашню в это утра Василий Ефимович тщательно подмазывал телегу, в нос ему ударил яркий запах колёсной мази вперемешку с запахом прелой земли и с густым запахом свежих осиновых дров. В уши Василия навязчиво ползли надоедливые звуки орущих грачей, густо обсевших берёзы и ветлы. Грачи громко и хлопотливо перекликались меж собой, самки заботливо чинили прошлогодние гнезда, самцы, видимо, поджидали, кто из мужиков первым выедет в поле пахать, чтоб сопроводить его и там, в бороздах пашни, полакомиться червячками, поднабрать их в клюве для самок, чтоб подкормить их.
Как только Василий Ефимович, расхлебянив настежь ворота, выехал на своем Сером, запряжённом в телегу, из ворот на улицу, грачи еще сильнее заорали и, с шумом спорхнув с ветлы, полетели вслед, сопровождая Васильеву телегу, в которой, кроме него, на левой стороне сидел Ванька, а в самой телеге пять мешков семян овса, плуг, фальный хомут с постромками, а поверх всего борона. Вскоре повозка Савельевых завернула за угол и скрылась, въехав на Слободу. Доехав до дома Касаткиных, Ванька с интересом стал разглядывать раскрашенный красками дом, замысловато-затейливые и причудливые узоры резьбы наличников и карниза. Он с трудом прочитал надпись, вырезанную на карнизе: «Сей дом принадлежит жителю села Мотовилова, семьянину Ивану Максимовичу Касаткину». Выехав из села и миновав мельницу, они выехали в поле.