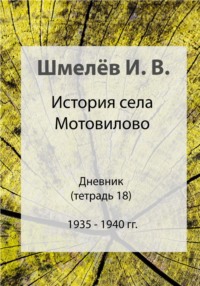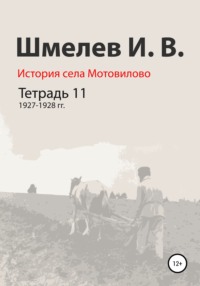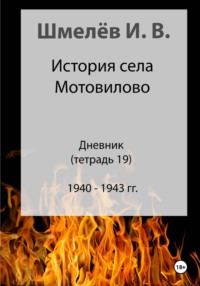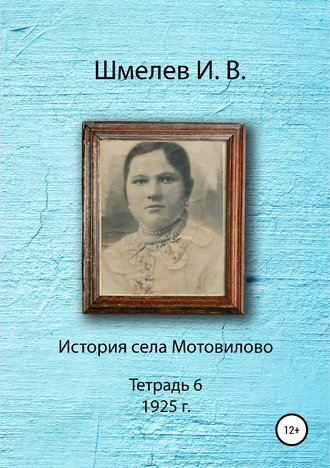 полная версия
полная версияИстория села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
В тот день вечером с работы из совета Кузьма пришёл пьяным. Видимо, его сегодня там «обмывали». Смотрит Татьяна, а ее Кузьма вламывается в дверь, едва на ногах держась.
– Татьян, Татьян, не ругайся, – пьяно бурчал Кузьма, – вроде и немного выпил, а совсем опьянел, отяжелел, – как бы оправдываясь перед женой, бормотал он.
– Ты попонятливей говори, а то бухтишь, сам черт не разберет, – оборвала его жена. – А с какой стати ты напоролся?! – начала грозный допрос Татьяна Кузьме.
– Я не виноват, меня напоили, – бесчувственно бормотал Кузьма.
– Я вот возьму скалку и начну ею тебя ухобачивать, и об твои бока ухват обломаю! – пообещала она ему, не в шутку рассердившись. – Захлебнуться бы тебе этой самогонкой, чтоб у тебя всю внутренность наизнанку выворотило! – недружелюбно пожелала жена мужу такую напасть.
Не обращая внимания на упреки и ворчание жены, Кузьма, не раздевавшись и не разувшись, брякнулся на кровать. С его ног на пол, отлипая от подмёток, падали ошметки затвердевшей грязи.
– Да разуйся, окаянная твоя душа, всю постель изъелозил и пол обваландал. Сатана! – обрушилась с новой руганью Татьяна на Кузьму, а он, как и не слыша ее угрозы, пьяно и без возмущения пробормотал:
– А ты, Татьян, отдохни, а то совсем захлопоталась!
И вот сейчас, отвечая на Дарьин вопрос, Татьяна осведомила баб: третий день, как он запьянствовал.
– Поглядела я на него, а рубаха на нем вся в блевотине, самогонкой да куревом, спрегару от него разит, как из нужника. Я рубаху-то сняла с него и давай ее в сени выкидывать, чтоб не разило. Еле отстирала. А уж это куренье его до чего мне надоело! Нет той минуты завёртывает и курит, всю избу прокоптил и спичек в дому не напасимо.
– А ты в молодости любила свово Кузьму, ай нет? – с елейной улыбкой на лице полюбопытствовала Устинья Демьянова у Татьяны.
– Сначала-то любила, а потом вроде и перестала, – уклончиво пояснила Татьяна. – Хотя и сейчас, какой бы он ни был, а все же он муж мне, и зря его в обиду не дам никому! – защитительно и резонно отрезала она.
И вдруг ни с того ни с сего Татьяна бухнула при всех:
– Эх, кто бы мне спину растереть нанялся! Близ недели, как ее у меня ломит. Видать, простыла, просквозило где-то!
– Татьян, зачем ты растиральщика-то себе ищешь? Чай, у тебя есть свой, – осуждающе и образумевающе заметила ей Дарья.
– Да он не умеет! – с наивностью ответила Татьяна.
– Как это не умеет? – удивилась Дарья. – А вон сколько ребятишков-то тебе натёр! – под общий смех с весёлой усмешкой возразила Дарья.
– На это всяк горазд, дурацкое дело, нехитрость, – слащаво улыбаясь, продолжала Татьяна, – а растереть боль не всяк сумет, тут надо умеючи, так растереть, чтоб кости трещали. А мой-то на это не способен, на это у него силёнки не хватает. Он не разотрёт, а, как муха крылом погладит, – охаивала своего мужа Татьяна.
Присутствующий тут Николай Смирнов сдержанно промолчал, но взял себе на заметку до подходящего разу. Давненько он задорился на Татьяну и дорывался того, чтоб к ней подъехать и соблазнить ее. Подходящий случай для этого Николаю подвернулся. Но об этом в другой раз, а теперь о том, как однажды Кузьма утром, собираясь в совет на службу, никак не мог отыскать свою шапку. Или сам ее куда засунул, или ребятишки куда ее запсотили, только пришлось ему обратиться к жене.
– Татьян, ты случайно не скажешь, куда моя шапку подевалась. Ищу и никак не найду. Ты не знаешь, где она?
– Знаю! – с ехидством и издевкой в голосе отозвалась она. – Я за водой на озеро ходила и ее вместо платка на голову надевала.
– Ты шутишь или издеваешься надо мной? Я тебя серьёзно спрашиваю, а она чепуху мелет, – обиделся он.
– Ты сам чепуху городишь! Ну кто, кроме тебя, твою шапку наденет? Где положил, там и ищи! А не чуешь, что она у тебя на голове, видать, совсем зачитался!
В больнице. Гуляева, Демьянова, Захарова
Хотя и не в ладу живут две пожилых вдовы Анна Гуляева с Устиньей Демьяновой, а как сойдутся вместе, не набаются меж собой, вспоминая о своих мужьях, которые погибли на фронтах. У одной в японскую, у другой в империалистическую войну. Уж, толи не востра на язык Устинья, а Анна все же беседу начала первой – она никому не отдаст первенства в разговоре, и всегда ее очередь:
– Я в ту пору ждала ево в побывку. Он письмом меня за неделю до этого известил. Гляжу в окошко, а он катит на своём двоёем, – усиленно закатывая глаза под лоб, предвозвестила Анна Устинье. – Я приготовилась и жду. Взметнула на дверь своими глазами, а он встал на пороге и молча улыбается. Я так и обомлела. Хотела от радости крикнуть, а у меня не кричится. Глазам-то своим не верю и ушами-то никак не расслышу, чего он мне для первости проговорил. Вот вертится в голове, а вспомнить так и не могу, что он мне сказал. Да и дело-то давненько было, ведь больше двадцати годов. Хотя я перед ним ничем и не виновата, а все же боязнь-то берёт. Я стою, немножко призадумалась, а он меня врасплох дёрг за полу. Я так и онемела, а он изменился в лице-то и баит: «Если замечу, то не кстись, не молись, пощады не жди!» Быть, кто-нибудь ему прописал в письме, на меня нахвастал. Пришлось мне ему в ноги бухнуться и прощенья просить, взмолилась, так и отбоярилась.
– Ведь ты тогда, когда он опять ушел на службу-то, вскорости Нюрку-то родила? – выбрав место и время, вклинила в Аннин разговор щепетильный вопрос Устинья.
– Вот и горе-то! – недоуменно ответила Анна.
– А я про свово Мишу-то скажу. Помню, перед войной его как-то по пьянке в картежную игру втравили, и мой Миша проигрался до нету. Мне один человек вехнул об этом. Я тут же сходила в мазанку, отпёрла свой сундук, выбрала коренной мой сарафан и снесла, продала его Александре Лаптевой. Денежки-то понесла Мише, а он еще из круга не успел вылезти, уж больно обрадовался мне и деньгам. Уж не дам свово Мишу в обиду. Еще два сарафана продам, а Мишу выручу, пусть играет в свое удовольствие, себе на потеху. А вскоре его забрали на войну, а там и на фронт он попал. Мне и стало частенько вспоминаться в ту пору. Я часто вспоминала о нем: воин воюет, а жена горюет! А помнишь, когда за солью-то в Нижний ездили, да без билета-то оттуда ехали? Я от боязни тогда всю дорогу про себя все молитвы проговорила. Изба, хибарка больно у меня плоха, как тогда парни-то подняли ее, так в угол-то и сейчас холодище несет. Мы с Васягой прямо–таки замерзаем, а дров нету. Закинула было словцо на счет дров брательнику Якову, а он как взрызнет на меня, что я и не рада, что спросила. А председатель только завтраками кормит, да зубы заговаривает.
– Он, слышь, в больнице лежит?
– Да вышел давно!
– Выздоровел?
– А какая зараза ему сделается! Брательник твой, Кузьма, за него был, а топерь, видно, опять сиклитарем стал.
– А у меня дров во дворе тоже нет ни палки, но зато девки меня протапливают. Я им квартиру под келью до самой масленицы сдала, пусть сидят, да для себя тепла, сколько им надо, запасают, – опять взяв разговор в свои руки, продолжая общую вдовью заботу о дровах, Анна. – А ты ладно-ка, у меня что случилось с печью-то: девки, мол, дрова сначала носили из дома, а, видно, отцы их стали поругивать за это, так они повадились дрова воровать. Позавчера принесли беремя, затопили галанку, и вдруг как ахнет взрыв! Мою галанку так вдребезги и разворотило, развалилась вся. Пришлось ее совсем изломать, а кирпичи повытаскать на двор. Быть может, это Митька подделал, он все с ружьями, да с порохом водится. А дрова-то эти как раз у него были украдены. Наверное, в полене устроил заряд, вот и взорвалось.
– Он на всякие пакости способный, – подтвердила и Устинья. Между ними продолжал перебулькиваться разговор.
– Да, гоже, вон, Дуньке Захаровой, тоже вдова, а живет за отцовой спиной и не об каких дровах не беспокоится, – перемахнув со своим разговором с себя на Дуньку, продолжала Устинья.
– Да и больно сначала-то отец ее, когда она еще была в девках, старался скорее выдать замуж, чтобы от нее избавиться, упрекал ее. Говаривал ей: «Тебя, Дуньк, в семье держать расчёту нет, больно объедаешь помногу. Никакого приполну нет, разве только из-за навозу». И пришлось ей тогда выйти замуж за первого, кто посватал: за немилого, за Федьку Митрофанова. Ладно, Федора-то убили на войне вскорости, а то она ево не любила, как собака палку, да и он ее ругал «худой», – провозгласила Устинье Анна.
– Да, вот теперь Дунька-то снова живет в отцовом дому, а он ее не выгоняет. Видно, дело-то не в навозе.
– Она в отцовом-то дому келью содержит, шинкарит, самогоночку подерживает и подолом промышляет. От мужиков отбою нет, и парней обучает, – из зависти на Дуньку рассудачились Устинья с Анной.
– Бают, она больно за собой наблюдает, свое тело холит, постоянно в зеркало заглядывает, себе красоту наводит.
– Она у меня однажды у самой спрашивала: где бы, говорит, достать девьего молока для белизны лица.
– А у меня спрашивала, нет ли вапетитных каплей. Надо бы отдать ей вирверьянку, третий год на боковой полке пузырек стоит. Ведь она и так вон какая, упитана телом, ходит одни титищи пышные, по пуду. Вон какие! Не то, што у нас, сухолярвов, – самокритично высказалась Устинья.
– Уж действительно, она, как конфетка, из бумажки вывернутая.
– Да уж, есть, во что, было бы чем! – многозначительно, с ехидной улыбочкой, добавила она. – А куда ей, вапетитные-то капли-то, она и так, как колода, толстая, вон, какая туша.
– Она баит, не ест ничего, а это, говорят, у нее дикое мясо наросло.
– Дико, не дико, а на мужиков она очень задорна. Ее, бают, три буквы на заборе, и то раззадорить могут.
– У нее всего скорее бешенство матки или вторая молодость, – заключила Устинья.
– Не знаю, как ты, Устинья, а я помню, как Дунька была еще девчонкой. По улице стадо гналось, и напала на Дуньку корова-пырунья, поддела ее на рога и рогом угодила ей в самый низ, Дунька от испуга и боли дико заверещала, а ее мать в это время во дворе была. Выбежала на Дунькин крик, увидала: Дуньку корова по земле рогами катает, – так и обомлела. Очумевшая от крика, схватила она холудину и отшугнула корову от Дуньки-то. Подхватила она замертво окровавленную Дуньку, понесла в избу, положила на кутник. Мать, перевязав Дуньке рану полотенцем, приостановила кровь, а все равно на полотенце выступило алое пятно. Отца к Дуньке мать близко не подпустила. Он, в уме смекнув, что с дочерью произошло что-то неладное, понимающе догадался и, прослезившись, с чувством жалости к Дуньке, как ошеломленный, выскочил из избы. Фельдшеру мать из-за стыда решила Дуньку не показывать, лечила ее сама. Провалялась Дунька в постели с неделю. Отудобев, снова стала выбегать на улицу, играть и кувыркаться на соломе с ребятишками-ровесниками. Все бы ничего, да с тех пор Дунька оказалась «худой», но об этом знала только она да ее мать. А когда она вышла замуж, узнал и ее муж Федор, который помыслил об этом иначе. Под горячую руку, в раздоре, укоризненно обзывал жену Дуньку «худой».
И вот теперь, будучи молодой вдовой, живя свободной от мужа и сварливой свекрови, Дунька была всем молодым мужикам и парням в зависть. Спина, с явно видневшейся под кофтой продольной ложбинкой, округлый зад, голые до колен, нежно-розовые, тугие икры, не в меру подзадоривали мужиков. Редкий, кто бы, не остановившись и не оборотившись, не посмотрел бы ей вслед и, задорясь на нее, не глотал бы слюну. Цапали раззадорившиеся мужики Дуньку за пышные груди, улучив ее где-нибудь в темном месте, дохуда протерли ей против сосков кофту. Но Дунька зря-то не поддавалась, знала себе цену. Преследуя в этом деле для себя материальную выгоду, на что особенно завидовали бабы, такие же вдовы, как и Дунька, но перед мужиками не имевшие никакого успеха в любовном деле, и захлёбываясь от щемящей зависит, они в беседах меж собой подвергали беспощадной перетряске все стороны жизни и поведения Дуньки.
– А вон Саньке Лунькину бают, баба-то совсем и на дух не нужна, – продолжая беседу с Устиньей, в разговоре перемахнула с Дуньки на Саньку Анна. – Бают люди, что он безяичный.
– А что же он чужих-то баб ломат? – заинтересованно полюбопытствовала Устинья. – Я своими глазами видала, как он на озере Тоньку Колькину ломал. Она белье на мостках полоскала, а он, купаясь, голый и обросший весь, как медведь, в волосах, приставал к ней. Она еле от него отделалась, нахлопав мокрыми Миколаевыми портками ему по харе.
– Так это он с дурости! Это на него находит изредка, – равнодушно отозвалась Анна.
– Нет, ему так и так жениться надо, ему уж двадцать шестой год попёр. Кто в селе в эту пору неженатым остался? Только он один.
– Вон Паранька, в девках совсем засиделась, женихи–замухрыстики, и то ее забраковали. Она и за Саньку пойти, наверное, рада и не против. И годами-то она ему ровня, вот и пускай они между собой поженятся, сойдутся и живут, как хрен с лаптем, – под общий смех вела разговор Анна про Саньку.
– Да, Параньку-то что-то парни не хвалят, совсем захаяли девку. Миколай Ершов, и то, я слыхивала, ее расхаивая, говорил, она, как доска, и ноги у нее больно тонки, как лутошки. Одним словом, говорил он, не девка, а сложены вместе две лучинки да горсть соплей! – высказалась и Устинья.
– А Саньке-то, может быть, только такая и нужна, – вставила свое слово Анна. – У Параньки-то, на самом деле, ни рожи, ни кожи, ни мяса. Тонкая, как глиста. Ни титек, ни ж…ы, и чем только ее в семье кормют? Да еще вдобавок у нее и глаза-то навыкате, как у совы. Она ими из стороны в сторону так и поводит, так и поводит, словно кукушку в часах, – округло разводя руками и сопровождая свою речь плавными движениями век, то закрывая, то открывая свои красные принатуженные глаза, то елейно закатывая зрачки под самый лоб, развязно разглагольствовалась Анна. Она хотела еще что-то сказать, но, невразумленно помямлив губами, что-то непонятное прошебуршив языком и, проглотив приготовленное слово, так ничего больше и не сказала. А потом, о чем-то вспомнив, вдруг она обратилась к Устинье с вопросом:
– Ты, бишь, давеча про зубы свои упомянула, ай они у тебя болят?
– Ну да! Иной раз так заможжат, терпенья никакого нету! – отозвалась Устинья.
– Так ты тогда вот что: пойдём завтра в больницу обе вместе, все охотнее двум-то.
– Пойдём! – согласилась та. – Ты с зубами, а я с глазами. Они у меня что-то стали побаливать за последнее время. Завтра пойдём и обе вылечимся!
На другой день утром чем-свет подруги уже шли по дороге в Чернуху.
– Ты бывала хоть раз в больнице-то?
– То-то нет.
– Ну и я впервой!
В больницу они пришли не первыми, там на диванах сидели люди, видимо, пришедшие тоже лечиться, ожидая приёма врача. Как только они вошли в зал ожидания, растерянно стали осматриваться вокруг, вопрошающе уставились глазами во ожидающих.
– Вон, – кивком головы указала им баба на окошечко, за которым сидела регистраторша в белом халате.
Первой подошла к окошечку Анна, всунувшись в него и приняв регистраторшу за врача, начала с просьбой высказывать ей о своих болезнях:
– Доктор, чай, помоги, пожалыста. Я застрадалась, терпенья моего нету, блюю и дрищу.
– Значит, у тебя понос и рвота, – стараясь навести посетительницу на тактичность, заметила ей регистраторша.
– Ну, пускай по-твоему будет, – с наивной простотой, смеясь, согласилась Анна.
– Я не врач, врачи в кабинетах принимают, а я только записываю. Сначала в карточку запишем вас, – пояснила регистратор.
– Ну-ну, записывай, пусть будет по–твоему. Гуляева Анна Дорофеевна. Где живу? В Мутовилове я живу, Кужадонского прогона, – добавила она. – Сколько годов? Скоро сорок будет.
– Ну-ка, я запишусь, – нетерпеливо ждав, почти оттолкнув подругу, протиснувшись к окну, Устинья:
– Пиши: Демьянова Устинья, добавь Спиридоновна, тридцать пять годов, тоже Мутовиловска, – как уже опытная, против Анны отчеканила перед регистраторшей Устинья и, обратившись к регистраторше, она вопросительно спросила:
– Ты, доченьк, чай, расскажи нам, двум дурам, мы ведь впервой здесь и ничего не знаем, в которую дверь ходют с зубами, в которую с глазами, а заодно скажи, в которую с поносом?
– Пока посидите, а придёт врач, он сам вас вызовет в кабинет, – растолковала им регистраторша.
Они уселись на диване, присоединившись к ожидающим приём. Прислушавшись к разговору незнакомых людей, подруги тоже вклинились в общую беседу.
Первой включилась Анна. Она как любительница людского разговора, нетерпеливо ждала момента, когда бы можно было ввязаться в беседу и почесать свой зудившийся от безделья язык, и этот момент вскоре подвернулся. Выждав, когда одна баба, рассказывающая о своем мужике, закашлявшись, прервала разговор, тут-то и всунулась Анна со своим неугомонным, нетерпящим соперничества языком. Она начала с общего вопроса:
– Вы, бабы, с чем сюда пришли? С какими болями?
– Кто с чем, – ответила одна баба.
– А ты с чем? – спросили и ее.
– Я вообще-то с глазами, а кроме глаз, у меня болей-то целый ворох, – и начала она рассказывать и оповещать баб о своих болезнях со всеми подробностями. – Во-первых, глазыньки у меня почти с детства болят, как все равно что в них кто горсть пыли бросит, режет и рвет их, как во время очистки лука. Зубыньки иногда побаливают, хотя их у меня во рту и немного осталось, да вопче-то почти все они целы, только девяти не досчитываюсь. Ну, зубы, черт с ними, и без них можно прожить, даже лучше, болеть будет нечему. – Она, широко разинув рот, демонстративно показала бабам свое беззубое хайло. Бабы участливо, болезненно морщились, сочувственно качали головами. – Всю головушку разворотило, в боку что-то болит, кашель одолевает, насморк, чихание замучило! Моченьки моей нету! – жаловалась Анна незнакомой публике.
Баба, сидевшая к ней спиной, внимательно прислушиваясь к ее разговору, то и дело поворачивала к ней голову, чтоб осмотреть: что за говорунья втискалась в их прерванный разговор. Потом она заинтересованно вся повернувшись к Анне, молча, но участливо вникла в разговор, сопровождая его мимикой и выражением лица. Где надо улыбалась, а где принимала удивленно-серьёзный вид. Хотя и трудно было вклиниться в Аннин разговор, потому что из-за непрерывности ее говора губы ее почти никогда не прикрывали ее полоротого рта, разве только тогда, когда она употребляла звуки «в», «м», «п». И то, улучив момент, эта баба, вклинившись в Аннину речь, сказала ей:
– Ты что, нам о своих-то болезнях рассказываешь? Вот придёт врач, вызовет тебя в кабинет, ему и рассказывай.
– А разве врач лечить-то будет, а не фельдшер? Я слышала, фельдшера больно гоже разные боли вылечивают. С кашлем-то я сама справлюсь, сварю чугун картошки, сяду на пары, и весь кашель как рукой сымет, а вот с чиханием и не знаю, что и делать, – продолжала Анна.
– А я знаю, как от него избавиться, – с чувством знатока обратилась та же баба к Анне.
– Как?
– Пымай кошку и кончиком ее хвоста пощекоти у себя в носу. И твое чихание пройдет.
– И то дело, надо испробовать. Я и не знала, спасибо на подсказ. Нынче же попробую.
– А вот, к примеру, если у кого зубы болят – это проще простого избавиться от зубной боли, ведь в каждом дому мыши водятся. Так вот, стоит только погрызть обглоданную мышами хлебную корку, и зубы как не баливали, – оповестила о своем лечебном знахарстве все та же баба.
Дверь с улицы отворилась, в зал вошёл интеллигентный человек, прошёл в кабинет.
– Доктор! Врач! – сдержанно и потаённо зашептались, зашушукались ожидающие приёма. Прошёл и еще врач.
На приём к врачу первой угодила Анна. Врач приветливо спросил:
– Ну, рассказывай, что у тебя болит.
Слегка оробевшая, с непривычки дивясь белизной халата и стен, косясь глазами на блестящие инструменты, Анна, осмелев, сказала:
– Глаза болят, видишь, они у меня какие красные и постоянно слезятся, так, что я к вам пришла с глазами.
– Еще бы ты их дома оставила, – улыбаясь, шутливо заметил врач.
– Головушку разламывает, в боку побаливает, кашлю, чихаю, а еще одна потайная у меня боль есть, о которой даже стыдно сказывать вслух. Я вам по секрету шепну на ухо.
– Нет, говори так, не стесняйся, я ведь врач.
– Врач, а не доктор? – с удивлением спросила она.
– Это все равно. По-нашему врач, по-простонародному – доктор, – терпеливо объяснил он Анне.
– Частенько я блюю и на двор хожу одной жидкостью, – смягчив прежнюю вульгарность, добавила Анна к своим болезням и эти два своих недуга.
Осматривая Аннины больные, распухшие, красные веки, врач заметил:
– Ты, наверное, по-малу спишь, редко умываешься и частенько, наверное, заглядываешь в чужие окна, новостями интересуешься, – в шутку разговорился с Анной врач, зная, что глаза иногда у людей болят от чрезмерного напряжения зрения, от нечистоты и от любопытного заглядывания в скважины чужих дверей. – Ну ладно, для глаз я тебе капель дам, а от поноса микстуры. Будешь принимать по ложке перед едой, взбалтывая. Порошков дам от кашля, и все пройдёт! – пообещал ей врач.
Анна, выйдя из кабинета врача, облегченно вздохнув, радостно оповестила:
– Вот я и вылечилась! Вроде и кашель у меня прошёл, и, кажись, чихать перестала.
Устинья нетерпеливо бросилась к Анне с расспросами:
– Ну как? Боязно?
– Нет, поглядел он мне на глаза, каплей пообещал и какой-то менстуры, пойла от поносу.
Высовывая голову из приоткрытой двери, врач поочередно вызывал на приём из зала людей, но, как на грех, Устинью не вызывают и не вызывают. Она стала уже заметно волноваться и беспокоиться, от нетерпения и она, изомленная ожиданием и завистью к Анне, что она так счастлива и быстро отделалась, Устинья решила прибегнуть к хитрости. Изобразив обморок, она в притворстве, закрыв глаза и мыча, повалилась на пол. Заслышав шум в зале, из кабинетов встревожено повыбегали врачи и хожалки. Подняв ее с пола, повели в кабинет врача на приём вне очереди. Ей в первую очередь дали понюхать нашатырного спирту, от чего она сильно заморщилась и тут же очухалась.
– Ну, показывай, что у тебя болит? – обратился с вопросом к Устинье врач, видя, как с нее вся одурь сходит от понюха нашатырного спирта.
– Я к вам с зубами, господин доктор, корневые зубыньки разболелись, головушку разворачивает, сна нету! Вся извелась! Терпенья моего не хватает!
– Ну, покажи зубы, открой рот!
Она широко распахнула рот, из которого пахнуло отвратительной гнилостью. Она пальцами начала еще шире раздирать его, обнажая свои почерневшие, наполовину сгнившие зубы, что-то бормоча.
– Вот это жвалы! – невольно помыслил врач про себя. – Ты, Демьянова, наверное, очень сварливая, зубы крепко сжимаешь в злости при перебранке с людьми, вот они и болят у тебя. А могут и совсем сгнить, и повыпасть, – не мог стерпеть, чтоб не высказать шутливо свои замечания Устинье врач. – Насколько могу – помогу, – пообещал он ей. – На вот таблетки, две проглоти сейчас, а остальные прибереги на случай, когда разболятся зубы, тогда и глотай по одной таблетке при болях.
Поблагодарив врача за помощь, Устинья из кабинета вышла. Ее вопрошающе встретили взглядом ждущие очереди приема:
– Ну как? – поспешила к ней с вопросом заждавшаяся ее Анна.
– Ничего! Все в порядке.
Получив лекарства, микстуру и капли, и попрощавшись с больными, подруги вышли из больницы, с большим облегчением пошли домой.
– А я все же схитрила! – самодовольно улыбаясь, начала дорожный разговор Устинья.
– А что? – спросила ее Анна.
– Врача-то я надула, не показала прогалину между зубами и запасное дупло в заднем зубу. Оно-то и спасло меня от неприятного глотания таблеток, которыми снабдил меня врач. Одну-то я проглотила, а вторую в дупло запрятала, вот она! – Устинья, отхаркнув, ловко выплюнула таблетку себе на ладонь и, отбросив ее в сторону, предостережено проговорила:
– Буду я их глотать! Еще отравют! От врачей только этого и жди, – с пренебрежением к медицине высказалась она. – А с зубами я лучше к Настасье Булатовой схожу, она, бают, больно гоже заговаривать их умеет.
– Ну да, сходи, – посоветовала ей и Анна.
– А головную боль лечить лучше нет, как меня научили: залезть на колоколину и встать под большой колокол во время звона. Я уж однажды пробовала, боль как рукой сняло!
Савельевы. Масленица. Минька
За неделю до Масленицы в доме Савельевых разразилась семейная драма. Минька с Санькой, работая в прихожей, оборудованной под токарню, пели богослужебные стихиры и, заспорив о том, на какой глас поется «Господи воззвах к тебе», приостановили работу. Минька, остановив станок, стал горячо доказывать тесавшему проножки Саньке, тот, воткнув топор в чурбан, в знаниях оборонялся перед старшим братом. Заслышав во дворе голос и возню с распряганием лошади приехавшего с мельницы отца, братья встрепенулись, перестали спорить и живо принялись за дело. Войдя в токарню, отец инстинктивно понял, что ребята только что бездельничали, и он начал на них ворчать: