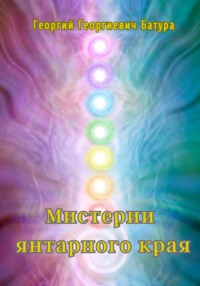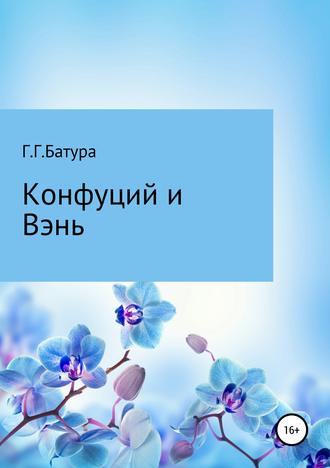 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
Евангельский Иисус проповедует древний мандейский путь спасения. С той только разницей, что Он, во-первых, полностью исключает возможность прелюбодеяния супругов (никаких «трех жен», как это допускалось для мандейских ганзибр, высших священников; от мандеев это разрешенное количество жен, судя по всему, перешло в ислам). А следовательно, Он считает, что половой акт дан человеку не только для того, чтобы произвести на свет потомство, как у животных. Хотя, такое потомство у мандеев всегда было и есть в почете, а дети для Христа – это пример прихода Царства в человеческое сердце. И, во-вторых, Иисус отказывается от формализма и строгости соблюдения мандейских религиозных обрядов (аналог китайскому Ли), считая, что главным условием спасения человека является не богослужение, а самопреобразование внутреннего мира человека (как и у Конфуция) и фактическое «слепление воедино» («связь», в том числе сексуальная) земных мужа и жены в прообраз единого андрогенного мандейского Адама (его иудейский «клон» – это Адам Шестоднева из иудейской Книги Бытие).
Без такого участия женского начала никакое подлинное спасение (окончательное, т. е. не райское) для мужчины невозможно, потому что Дух – это «женщина», а не «мужчина». Из «мира Тьмы» можно спастись только в том случае, если использовать те «базовые инструменты», которые действуют в этом «мире Тьмы». Именно на этой гендерной основе Духа зиждется то подлинное спасение, которое заявлено в Евангелиях. Другого вида «абсолютного» спасения человечество никогда не знало.
Повторим еще раз. Если следовать мандейским текстам, то Иисус был «извратителем» учения назируты, и именно за это Его изгнали из рядов мандеев. Он был грамотным человеком; был, бесспорно, священнического рода, – иначе не был бы знаком с назирутой, – а значит, и это вытекает из всего только что сказанного, раньше имел жену, – обязан был ее иметь по мандейским законам (по «мандейскому» Евангелию от Иоанна – Ему было около 50-ти лет, когда Он вышел на проповедь). Такого «изгнанного Иисуса» мы и видим в евангельском тексте, и именно такой человек стал проповедовать «мандейское» Царство Небесное среди иудеев, умело используя для такой проповеди как иудейское Писание, так и ожидаемый всеми иудеями приход Мессии. И именно отсюда – многочисленные слова Христа, обращенные к иудеям, в которых Он противопоставляет Себя, как не иудея, тем слушателям, к которым Он обращается: «ваш Отец», «ваш Рай», «ваш Закон» и т. д. «Ваш», но не «наш», как следовало бы говорить, если бы Он действительно принадлежал иудаизму.
В случае успешного пестования китайского Дэ тоже возникает проблема необходимости обращения мужчины к «женскому», а иначе в Дао Дэ цзине автор-мужчина не стал бы задавать себе «не совсем понятный» вопрос: «Можешь ли быть как самка (или «самкой»)?». В данном случае это не призыв к гомосексуализму, а обращение взгляда уже духовно развитого мужа к тем базовым первоосновам Бытия, которые являются общими для всех народов нашей планеты.
О проблеме Духа, в том числе – СвятогоА теперь, для правильного уяснения поднятого нами вопроса, проследим путь исторической трансформации существительного «дух» в христианском богословии. В том древнегреческом языке, на котором зафиксирована евангельская (фактически, мандейская, с небольшими изменениями) проповедь о спасении, существительное пне́вма («дух», «дыхание») имеет грамматический средний род, а не женский, как это имеет место в арамейском (мандейском) языке или на библейском иврите.
Еще раз скажем читателю, что проповедь Христа проходила именно на греческом языке, а не на арамейском, как это часто можно услышать от богословов, причем, как христианских, так и иудейских. Для доказательства этого положения вовсе не обязательно приводить очевидные примеры из жизни того времени. Но все-таки приведем, хотя бы один, наиболее очевидный. Священным Писанием иудеев в это время был текст Септуагинты («Семидесяти толковников») на греческом языке – евреи сами сделали этот перевод для себя! – а не тот древний текст на иврите, который впоследствии масоретам пришлось, в прямом смысле этого слова, реанимировать (более того, дополнительно оснащать весь текст специально созданными значками «никудот», с помощью которых в древний текст, состоящий из согласных, вводились те гласные, которых первоначально в нем не было, как их не было и в более древнем древнеегипетском письме). Делалось это с целью принципиального размежевания с усиливающейся Церковью христиан, которая включила еврейскую Септуагинту целиком в свою Библию.
Любой не заинтересованный филолог, анализирующий греческий евангельский текст, найдет сразу же несколько языковых доказательств в подтверждение того факта, что проповедь Христа действительно состоялась на греческом. При этом следует понимать, что подобное положение дел – признание именно греческого языка, а не арамейского, в качестве языка первоначальной проповеди – не отвечает интересам ни Церкви, ни Синагоги. Причем, у каждой из этих сторон для этого существуют свои очень веские основания.
Заявление известных в научном мире богословов о том, что перевод Евангелия на любой язык мира адекватно передает смысл греческой проповеди Христа, – это разговор всех тех, кто не имеет малейшего представления даже о «китайском» Дэ. Все эти богословы вместо знания благодати предъявляют свои «профессорские регалии» и рукотворные «гербовые» удостоверения всем тем, кому, по большому счету, совершенно наплевать, на каком языке действительно состоялась проповедь и была ли она вообще. Их аудитория не знает ни греческого, ни арамейского. И при таком положении вещей оказываются довольны обе стороны.
Приведем простейший пример. Во всех таких «переводах» евангельские термины мюстерион и крюптос переводятся как одна и та же «тайна», а основополагающее Иисусово метаноэ́о и уже совершенно другое – метамэ́ломай – как одно и то же церковное «покаяться». Но если это действительно так, значит, и в Иуде-предателе после того, как он чистосердечно «покаялся» (а в том, что он покаялся действительно чистосердечно, – сомнений нет, и понимание текста здесь однозначно), тоже произошла эта таинственная метанойя. А следовательно, и он тоже удостоен того посмертного Рая, в котором, по мнению Церкви, пребывают сейчас Христос и «разбойник справа». Сидят там вместе все трое, вместе с Иудой – друг напротив друга – пьют вместе «новое вино», курят «трубку мира» и улыбаются. Именно такова та логика, которую можно вывести из всех этих «переводов». Однако, если, все-таки, читать это по-гречески, то Иуда – действительно может оказаться в Раю; а Христос – не вместе с разбойником, потому что давно уже не в Раю; а мистерия – это не «тайна», и метанойя – это никакое не «покаяние». И более того, при правильном понимании текста Иуду можно и нужно оправдать «небесным судом». Его вины в смерти Христа нет.
Или взять еще один интересный пример – концовку Евангелия от Иоанна. Воскресший Иисус трижды вопрошает Петра: «Любишь ли ты Меня?». И Петр только на третий раз почему-то обиделся на эти слова (или очень расстроился). И читателю подобного «перевода» невдомек, что первые два раза Иисус, когда спрашивает о «любви» Петра, использует греческое возвышенное агапа́о (отсюда – «ага́пы» – «ве́чери любви» или «поцелуи» первых христианских собраний), а в третий раз – Он заменил это агапа́о на обычное мирское филе́о. То есть фактически Он спросил: «Считаешь ли ты Меня хотя бы другом?». И правильно спросил: ведь Петр, несмотря на все свои прежние уверения «умереть» за Него, трижды от Него принародно отрекся «с клятвами и проклятиями». А потом – когда петя-петушок прокукарекал! – вдруг опомнился, вспомнил слова Христа… «и заплакал, и пошел» (как поется в той детской колыбельной). И если нам дано рассуждать по высшей справедливости, то ученик Иуда должен быть больше оправдан, чем ученик Петр. Иуда от горя – повесился, совесть измучила, потому что он не хотел гибели Учителя, но при этом явился невольной причиной Его казни. С того кто меньше знает, – с того меньший спрос, и он «будет меньше бит».
Правоверный христианин может возразить автору книги и сказать, что Сам Христос объявил апостолам о том, что именно на Петре, как на «камне», Он построит Свою церковь. Конечно, это так, но эти очень важные слова Христа тоже понимаются всеми неправильно. Дело тут вовсе не лично в Петре. Вот эта евангельская цитата (Мф. 16:18, 19):
И Я говорю тебе: ты Петр (греч. пе́трос) и на этом камне (пе́тра) [Я] построю Мое собрание (экклеси́а – «общее народное собрание», «сходка», поздн. «церковь») и ворота Ада (ха́дес – «подземное царство») не осилят его. Дам тебе ключи от Царства Небес и что ты свяжешь (дэ́о – «вязать», «связывать») на земле, будет связано на небесах, а что развяжешь (лу́о – «развязывать», «распускать», «освобождать») на земле, будет развязано на небесах.
Во-первых, мы уже показали читателю, что истинным Хозяином Ада и Рая (но также и нашей земной жизни) является один и тот же второй Принцип (иудейский Бог Яхве). А из этого следует, что Иисус фактически заявляет Петру о том, что всесильные «врата Ада-Рая» этого Принципа не смогут осилить то Царство Небесное, в которое войдет Петр, имеющий от этого Царства «ключи». Царство Небесное в этих словах Христа однозначно противоставляется Аду, а следовательно, и Раю, потому что Царство и Рай – это разное. И далее Иисус налагает особое ограничение на Петра, – то, которое позволит или не позволит Петру войти в Царство, воспользовавшись этими «ключами». Какое же тут ограничение?
Оно выражено в словах «свяжешь-развяжешь», причем, «свяжешь» – здесь, «на земле». И тут следует поразмыслить, чем же отличается ученик Петр, по евангельскому тексту, от всех остальных апостолов? Отличие единственное: только о Петре сказано, что он женат. В Евангелии есть эпизод, когда Иисус, войдя в дом Петра, исцелил от горячки его тещу. А значит, Христос отдает «ключи от Царства» – того Царства, которое Он противопрставляет Аду-Раю Бога Яхве – только женатому Петру. Последующее ограничение это подтверждает. Петр сможет получить желаемое Царство только в том случае, если он сумеет «связать» на земле в единого Адама Шестоднева свою жену и себя самого.
Правильно ли мы понимаем эту терминологию Христа – «связать», «развязать», – прилагая ее к семейной паре? Да, правильно. В главе 19 того же Евангелия фарисеи задают Христу такой вопрос (Мф. 19:3): «Позволительно ли человеку разводиться с женой своей?». Русское слово «разводиться» передано греческим термином, производным от уже известного читателю глагола лу́о «развязывать» («разводиться» – это апо-лу́о, т. е. то же самое лу́о, но с приставкой апо-). А значит, и в рассматриваемом нами случае речь тоже идет о «связывании» мужа с женой.
Дополнительно следует отметить, что в греческом языке времен Христа отсутствовали слова «жена» и «муж», а были слова «женщина» (гюнэ́) и «мужчина» (анэр). Когда «женщина» и «мужчина» вступали в сексуальные отношения («связывали» себя) и заводили семью, эти термины в обществе понимали уже как «муж» и «жена». Для Христа не важно, есть или нет «в паспорте» (или другом документе) отметка о бракосочетании: главное для Него заключается в том, зафиксировано или не зафиксировано «на Небесах» прелюбодеяние между этой парой. Если такой «грех» есть – если мужчина и женщина «не связаны» так, как это понимает Христос – значит, никакое «Царство» даже сам Петр не получит, а произойдет принудительное «изымание ключей» у этого апостола.
Церковь же трактует этот эпизод так, что апостол Петр важно стоит у «врат Рая» со «связкой ключей», подвешенных к кушаку его почти монашеской рясы, и строго инспектирует всех приходящих: кого-то впускает, а кого-то изгоняет. Но Рай – это «епархия» второго Принципа, а Иисус ведет речь о том Царстве, которое принадлежит первому Принципу. Яхве никогда «не одолеет» Законы первого Принципа, потому что Элохим – сильнее по праву «первородства». Для того чтобы попасть в Рай Бога Яхве, Петру вовсе не надо было становиться последователем Христа, – ему следовало бы брать пример с правоверного иудея Иуды, который в Рай, скорее всего, попал.
Иуда – это простой еврей (мандей Иоанн в своем прекрасном Четвертом Евангелии его, все-таки, немного «оболгал», хотя это простительно после всего того, что евреи сделали с мандеями). Иуда – яростный борец за свободу своего народа, и он не помышляет ни о чем духовном. Таких было тысячи. Зачем Христос взял его к себе в ученики? Ведь Он Иуду, фактически, обманул, т. к. слукавил, когда выдавал себя за еврейского Мессию. В этом обманулись даже братья Зеведеевы: оба тайно просили Его (позор на их голову!) сесть «по правую и по левую сторону», когда Он победоносно войдет в Иерусалим и низложит римлян. Когда Иуда осознал весь этот «обман», для него все «рухнуло», т. к. мечта о свободе еврейского народа превратилась для него в ничто. И жизнь потеряла всякий смысл. Такие евреи есть, и пример тому – Октябрьская Революция 1917 года в России. Он выдал (буквально, «передал») Иисуса римлянам вовсе не для казни – об этом он и не думал, – а чтобы «отомстить» этому самозванцу-мандею, попусту смущающему еврейский народ. В душе у Иуды действительно произошла трагедия, поэтому он и повесился, причем, реально. Повесился – также и потому, что Иисуса приговорили к смерти, и потому, что уже не мог жить «в рабстве» в то время как свобода казалась совсем рядом.
Иуда – это смелый и прямолинейный еврей-националист. Он попал в эту евангельскую историю, «как кур в ощип», вопреки всем правилам, потому что обычно именно такие, как он, и становятся национальными героями. Апостол Петр на «подвиги» способен не был. Иуда – это самый трагичный персонаж всех евангельских событий. А то «Евангелие Иуды», которое недавно с помпой было «обнаружено» и растиражировано, – это пустышка, не стоящая внимания.
Вернемся к вопросам «перевода». И как же нам быть, например, с обратным переводом на арамейский «подлинник» эпизода вопрашания Петра о «любви» воскресшим Иисусом, если во всем арамейском языке для глагола «любить» существует только одно единственное слово ахав (а в греческом – их целых четыре!)? И это – большой вопрос ко всем «научным богословам».
Или еще один замечательный пример. Всем известны слова Христа о том, что «богатому трудно будет войти в Царство Небесное» (Мф. 19:24). И далее – о «верблюде»: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство». Чего тут только не напридумывали богословы! Даже то, что якобы в Иерусалиме в то время существовали какие-то специальные ворота для приходящих караванов верблюдов, и назывались такие ворота – «игольные уши». А значит, по мнению этих богословов, бедные верблюды как-то в такие «игольные уши» все-таки протискивались. А следовательно, и для богатого тоже не все потеряно: можно и в богатстве пожить на земле, и умудриться в Царство «протиснуться», как эти верблюды Но во-первых, в евангельском тексте мы видим «ухо» в единственном числе, а не «уши», как в этих «воротах» (не путайте древнегреческий и вэньянь!).
Боже мой! Опять это «ухо Конфуция», которое нас уже просто преследует! Вот если бы здесь был вэньянь, можно было бы поспорить. И во-вторых, зададим себе вполне здравый вопрос: для чего вообще было устраивать такие «ворота», чтобы эти несчастные животные проползали бы под ними на своем брюхе? С какой целью? Ответа нет. А ведь евреи всегда отличались своим практичным умом. И действительно, эти «ворота» построили вовсе не евреи, а богословы, причем, в своих неуемных фантазиях.
В действительности Иисус сказал притчу, которая становится понятной только на греческом языке. Понятной на слух. Он не мог открыто сказать, что богатый в Царство не войдет: тут же начались бы «гонения», да и жен своих эти богатые отзвали бы обратно – тех, которые ходили с Ним и помогали Ему «своим достоянием». Иисус средств к существованию не имел и нигде не работал, а проповедью сыт не будешь. Вот Он и высказался об этом очень осторожно, в притче. И если все это знать, в таком случае понятным становится также и то, почему Он не использовал в этой притче более подходящий для такой цели и понятный для всех объект – «громадного слона» (существует мнение, что на Востоке ходила именно такая пословица – про «игольное ушко» и «слона»), а заменил его на «горбатого верблюда».
Дело в том, что по-гречески слово «верблюд» – это камело́с. Когда обычный слушатель слышит об «игольном ушке», ему на ум всегда приходят близкие ассоциации (часто зрительные), связанные с «иголкой», «ниткой», «наперстком» и т. д. Подобные ассоциации возникают у нас непроизвольно и в естественном порядке, как некий «фон». А в греческом слове «верблюд» очень ясно прослушивается известное греческое слово «канат» – кало́с, разделенное по центру вставным запретительным отрицанием «не» или «нет» – греческое мэ. Рассказчик может намеренно зафиксировать это в своей речи, произнося слово камэлос как бы с небольшой задержкой, по складам. То есть фактически, если преобразовать этот «верблюдо-канат» в русскую кальку, – то слово «верблюд» прозвучит как «ка-не-нат», что автоматически перестраивается умом слушателя в более привычное «канат не…». Надо иметь некоторое воображение и обладать определенным чувством юмора, чтобы легко понять «на слух» этот скрытый намек Христа: «Как морской швартовый канат не пройдет сквозь ушко иглы, так и богатый не войдет в Царство Небесное».
В этом и состоит притча, и понять ее можно только исходя из греческих слов Христа. Даже само то, что речь идет о каком-то невероятном «верблюде» (почти аналог удивительному «уху» из биографии Конфуция), является прямым указанием слушателю на то, что «верблюд» – это намеренный абсурд, и что смысл следует искать «за» этим «верблюдом». Напомним читателю, что мы сейчас говорим не о тексте «мандейского» Евангелия от Иоанна, и не о «греческом» Евангелии от Луки, а о са́мом что ни на есть «еврейском» Евангелии от Матфея.
Приведем еще одно доказательство греческой проповеди Христа. Иисус на Кресте «вскричал громким голосом»: «Эли́, Эли́, лама́ савахвани́!». Эли – это звательный падеж от существительного Эль. В свою очередь Эль – это арамейское «Бог» (то же самое, что еврейское «Элохим», т. е. Иисус обращается к «Отцу»). В том, что Иисус знал арамейский, сомнений нет – Он был мандеем и свой язык безусловно знал, о чем свидетельствуют отдельные арамейские слова, которые Он произносит в евангельском тексте (напр., еффафа́ – «откройся», или талифа́ кум – «девочка встань»). Итак: «Элохим, Элохим, зачем Ты меня оставил?» – таков перевод этих арамейских слов. Причем, очень вероятно, что это не какие-то слова еврейского Псалма, а собственный «крик души» умирающего Мессии. Недалеко от Него стояли иудеи и смотрели на это «представление». И как же они отреагировали на эту арамейскую фразу, которую Иисус буквально «прокричал им (но не Конфуцию) в уши»? Удивительно, но из евангельского текста получается, что евреи ее просто не поняли. Почему? Вариант ответа может быть только один: потому что не знали арамейского языка. «Илию зовет» – говорили они между собой. Почему они так предположили? Потому что семитские имена «Эль» и «Элия» (Илия) похожи по звучанию, а больше они ничего в этой арамейской фразе понять не смогли. И о каком же арамейском языке проповеди Иисуса можно вести речь?
Но может быть и прокуратор Пилат специально изучал арамейский язык для того, чтобы вести беседы с иудеями? Для специалистов подобное предположение покажется абсурдом. Но в таком случае, на каком языке Пилат разговаривал наедине с Иисусом? Может быть, переводчика пригласил? По евангельскому тексту иудеи требуют у Пилата казни Иисуса – на каком языке? Ведь их прекрасно понимает Пилат и даже спорит с ними, что хорошо видно из текста. Римские легионеры издеваются над Иисусом и кто-то говорит Ему: «Приветствую, Царь Иудейский!». На каком языке? Вариант только один – на греческом. И пусть богословы попытаются доказать обратное.
И много еще чего такого очень интересного можно сказать и о языке проповеди Христа, и о «переводах». Если человек хоть немного состоялся в своем духе, он должен читать Евангелия на греческом языке, не доверяя никаким «богословам» и их «переводчикам». Все это – слово в слово – относится и к богословам «китайским» и к их трактовкам высказываний Конфуция.
Но продолжим наши рассуждения об истории термина «дух» в христианском богословии. Судя по всему, первоначально евангельская проповедь была принята и распространилась в среде коптов, – в первую очередь в египетской Александрии, где существовала самая большая и влиятельная иудейская диаспора. Общеразговорным языком в Александрии был греческий. Вспомним, что именно для Александрийской еврейской диаспоры была создана Септуагинта. И, кстати, монашество, как общехристианский факт, родилось именно в Египте, но в отличие от «нашего» монашества, первоначальные отшельники были, как правило, людьми в возрасте, которые остались без жен. Итак, евангельское греческое существительное среднего рода – пне́вма («дух») когда-то попало на египетскую землю.
В коптском языке (а это – последняя стадия развития языка древнеегипетского) отсутствует грамматический средний род, как об этом уже было сказано. Причем, исторически сложился такой порядок вещей, что все существительные среднего рода, заимствованные коптами из греческого языка, становились именами мужского рода в языке коптском. Заимствовались только самые важные слова, и именно к таким принадлежало слово пне́вма. Судя по всему, подлинного семитского влияния в коптской среде не было (а если и было, то только опосредованно, через язык греческий). И только этим обстоятельством можно объяснить тот важный факт, что греческое евангельское слово пне́вма («дух») при переходе в коптский язык в виде того же самого заимствованного пневма приобрело род мужской. То есть изначальная семитская «женщина» ру́ах (ру́ха) на египетской земле изменила свой «гендерный пол» и стала «мужчиной» пневма. Но вернемся на время к языку греческому.
О том, что «еврейская» ру́ах превратилась в греческом языке, причем совершенно «противоестественно», в нейтральное оно среднего рода, знал создатель Евангелия от Матфея, т. к. он был грамотным евреем (по крайней мере, владел арамейским языком). Но переделать грамматику греческого языка он, естественно, не мог. В греческом тексте Евангелия от Матфея мы читаем, что на Иисуса, при Его крещении, нисходит Дух Святой. У мандеев такое «окунание» (крещение) производилось отдельно для каждого человека, т. е. в воду заходили по одному, а не «толпой». И Христос тоже в воде в это время был один, и затем, как сказано в Евангелии, Он «поднялся из воды». Следует отметить, что Иоанн Креститель (букв. «окунатель») – это один из почитаемых мандейских (а не иудейских!) святых, – так сказано в их Писании.
По тексту Евангелия от Матфея во время крещения на Иисуса спускается «Дух» в виде существительного перистэра́, – что по правилам грамматики греческого языка должно быть переведено словом «голубка», а не «голубем» мужского рода, которого мы видим во всех переводах. Существительное «голубь» мужского рода – это перистерос с мужским окончанием на – ос. Евангелист Матфей намеренно показал в тексте «голубку», а не «голубя», зная, что Дух-Руа́х – это существительное женского рода.
Однако христианская Церковь через какое-то время решила изменить значение этого существительного перистэра́ – (с окончанием на «чистую а́льфу», т. е. это слово относится к основной группе греческих существительных женского рода) – и назначила этой «голубке» Матфея мужской род: «голубка» перистера́ стала «голубем» (чем не прекрасный сюжет для новых западных сообществ!). Почему это было сделано, увидим ниже. И сегодня в греческом словаре перистера́ – это «голубь», «голубка»; а перистеро́с – это «голубь-самец». И теперь непонятно, чем отличается «простой» голубь-перистера́ от голубя-самца-перистеро́с? И почему, в таком случае, для существительного «голубка» в богатейшем древнегреческом языке не нашлось отдельного слова? Отвечаем: оно когда-то существовало, но «злые люди» украли.