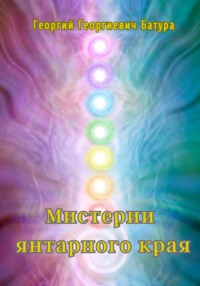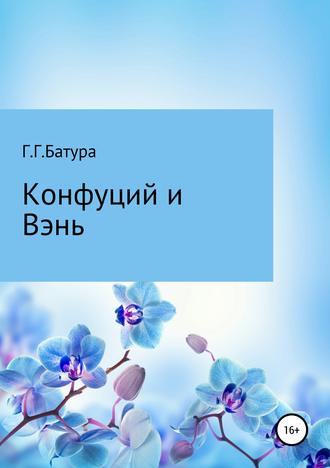 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
Глава 2
Суждение 2.1
2.1. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «[Если вы] *намереваетесь (вэй) [заниматься] делами управления в стране (чжэн, т.ж. астр. «*светило»), – [осуществляйте это] с помощью (и) Дэ. *Уразумейте (пи, т.ж. «*понять», «*уяснить») [это] *как подобие (жу) Полярной звезде (бэй чэнь, букв. «Северный знак Дракона»): [она] *пребывает неподвижно (цзюй, т.ж. «*сидеть неподвижно», «*положение», «*позиция») [в] своей (ци) резиденции (со), а (эр) многочисленные (чжун, т.ж. «толпа», «множество») звезды (син) ее (чжи) приветствуют (гун табуированный, т.ж. «кланяться со сложенными у груди руками», «окружать», «стоять вокруг свитой»)».
Как видит читатель, данное суждение является ответом Конфуция на амбиции его учеников, выраженные в стремлении служить тому или иному княжеству с благородными целями «умиротворения Поднебесной». Вопрос заключается в том, смогли ли понять ученики подлинный смысл этого наставления? Ведь главное в нем – это то Дэ, о котором говорит Конфуций, и для понимания этого суждения необходимо это Дэ знать, т. е. им обладать. Но исходя из текста Лунь юй, не всегда можно ответить определенно на принципиальный вопрос: кто из учеников такой опыт Дэ получил, и получил ли хотя бы один из них? Бесконечные вопросы учеников о том, что́ такое Жэнь, наводят на мысль, что эта практика им в действительности не знакома, а следовательно, они также далеки и от знания Дэ. Потому что, как мы увидим далее, Конфуций утверждает, что сначала следует Жэнь, а уже потом – Дэ и Вэнь.
И в таком случае сам подход Конфуция к формулировке этого суждения полностью укладывается в основополагающий принцип проповеди Христа о Царстве Небесном. Объясним читателю, о чем идет речь. Для того чтобы евангельское Царство знать, необходимо его получить, т. е. узнать его в духовном опыте. Но при «живом» проповеднике Иисусе это было невозможно в принципе, т. к. такое Царство достигается только через «Христа Воскресшего», т. е. через «Духа Христа», существующего в качестве невидимого Посредника (или, иначе, – в качестве «Спасителя» или «помощника», каким и был для Конфуция, например, дух Вэнь-вана). А значит, ни один из учеников Христа до Его смерти это Царство знать не мог. И именно по этой причине все ученики Христа были уверены в том, что Он им говорит о времени прихода на землю того Мессии, которого ждали все иудеи, имея в виду, что таким Мессией и является Он сам (так думал и апостол Павел, который земного Иисуса не знал). А воцарение Мессии-Христа в Иерусалиме – как предполагали ученики – и будет означать приход на землю проповедуемого Им Царства. К слову сказать, псевдо-роли Христа в качестве еврейского Мессии не понимали и те мандеи, из рядов которых Он вышел.
Название такого иудейского мессианского царства на иврите – мальку́т шама́им (малькут – это «царство», шамаим – «небо»; этимологический перевод слова шамаим – «там во́ды [дождя]»). Проповедь Иисуса о Царстве состоялась на греческом языке – на том простонародном койнэ, на котором и сохранились канонические Евангелия. Причем, это очень легко доказывается из самого евангельского текста – то, что Он проповедовал не на арамейском, а именно на греческом. По этой причине иудейское название царства на иврите или арамейском в Его проповеди не фигурирует. А следовательно, уличить Христа во лжи – что Он всех обманывал с этим «Своим» Царством – было бы некорректно.
Иисус об этом Своем духовном Царстве постоянно говорит, но при этом Он даже не пытается раскрыть глаза ученикам на их ошибку. Зачем Он рассказывает им об этом Царстве как о реально существующем, хотя уверен в том, что получить такое Царство при Его жизни ученикам вряд ли возможно? – Для того чтобы когда-то в будущем – если вдруг (!) Его слушатель это Царство получит – он смог бы его отождествить с теми словами и притчевыми сравнениями, которые были сказаны Христом при Его жизни. Но почему Он, все-таки, не стал объяснять ученикам, что эти два Царства – иудейское и Его – разные? – Потому что в таком случае обнаружилось бы, что Его проповедь находится вне иудейского Закона (Торы), а в соответствии с этим Законом Его следовало бы тут же предать смерти. Как убили, например, перводъякона Стефана, причем, «апостол» Павел этому самосуду прислуживал, как правоверный иудей.
И если следовать евангельскому тексту, то еврейские священники именно за это Христа и судили, и выдали Пилату на смерть. Они поступили справедливо, если следовать их Закону, хотя Сам Иисус настолько грамотно и умело вел Свою проповедь, что веских аргументов для Его казни не существовало. Вот они и сделали то, что должны были сделать сами, но сделали это руками римлянов. То есть поступили достаточно мудро, если рассуждать с точки зрения истинных хранителей Закона.
Итак, в случае открытости эта проповедь Христа о духовном Царстве просто не состоялась бы, хотя это «Царство» по своей подлинной сути принадлежит тому же самому тексту иудейской Торы. Но принадлежит уже не еврейскому Богу Яхве, а общечеловеческому Богу Элохиму (чего иудеи просто не понимали). Более того, в случае открытой проповеди от Христа сразу же отвернулся бы не только весь окружающий Его еврейский народ, но и Его ученики, которые были простыми «рыбарями» и не отличались ни большим умом, ни особой духовностью: им нужен был именно иудейский лидер-освободитель, – земной Мессия и те чудеса, которые Он творил. А кому-то из них надо было «сесть от Него справа и слева» в Его будущей Иерусалимской резиденции, когда это еврейское Царство состоится. Именно из-за этих «должностей» они чуть было не подрались по дороге в Иерусалим. А когда выяснилось, что Он не Мессия, – т. к. Его очень легко взяли стражники в Гефсимании и Ему не помогли никакие «чудеса», – все они разбежались «кто куда», включая самого Петра, который после этого от Него трижды отрекся с «проклятиями» – отрекся прилюдно, опасаясь за свою жизнь.
Погибнуть ради общенационального Мессии – это для еврея всегда почетно, а ради какого-то неудачника – зачем? Ну а когда Христос вдруг Воскрес… Это было уже «настоящим чудом» в глазах этих «рыбарей» – мертвый и вдруг стал живым! – и они опять обратились к Нему, и Петр стал «просить прощения». И именно такая логика рассуждений больше всего свидетельствует в пользу того, что «дух Христа» им действительно являлся – в виде «Воскресшего» Иисуса. Но этим простым «рыбарям» не хватало ума даже на то, чтобы осознать, что «воскресшие кости» Христа никогда бы не смогли пройти сквозь стены и «запертые двери» того помещения, где они в страхе сидели. Это были «глупые дети», хотя впоследствии они, конечно, поумнели. А вот если бы среди них вдруг оказался Конфуций, он сразу же им бы всем сказал, что перед ними – «дух Христа», Его шэнь. Да и древние египтяне в этом случае тоже не обманулись бы: они заявили бы, что это Ка умершего Христа.
И видя перед своими глазами эту уже хорошо понятную нам «матрицу» поведения Христа, мы можем уверенно сказать, что и у Конфуция – судьба та же. Мы видим, что перед его смертью все ученики от него фактически отвернулись, – они от него отошли, т. к. он не стал, в их представлении, никаким Цзюнь цзы. Перед своей кончиной он плакал от их бессердечия. За шесть дней до его смерти его навестил лишь один ученик, да и тот пришел «слишком поздно».
Но речь у нас – о другом. У Конфуция – тот же принцип проповеди о Дэ и Вэнь, что и у Христа о Царстве Небесном. Единственно, что пока могут понять ученики из этих его слов, – это то, что участвуя в государственных делах, они должны быть как бы «в центре» всей гущи правительственных сановников, но при этом «не суетиться», не проявлять излишней активности. Должно случиться так, причем, «само собой», что не они сами, а к ним будут обращаться за советом и при этом они будут всегда востребованы, хотя и не будут прилагать к этому никаких особых усилий.
Что это – «сказки»? Так подумает про себя наш читатель. Но перед мысленным взором Конфуция – реальный пример Вэнь-вана, который даже и государем-то (ваном) Чжоу не был, но при этом именно он оказался тем реальным основоположником новой династии, время которой навсегда сохранилось в памяти Китая как «золотой век» Поднебесной. Те соседние племена, которые сыграли важную роль в победе чжоусцев над иньцами, «крутились» вокруг Вэнь-вана, как звезды небосвода вокруг Полярной звезды. В таком искреннем «порыве к справедливости» Вэнь-вана поддержали все окраинные племенные союзы. Более того, племя чжоусцев в то время было более отсталым во всех отношениях, если сравнивать его с иньцами: и в техническом, и в культурном, – даже иероглифическую письменность чжоусцы заимствовали у этой предшествующей династии. И тем не менее, Вэнь-ван победил, – победил только потому, что был Вэнь. А значит, был носителем Дэ, – так это понимает сам Конфуций.
Единственно, что здесь можно добавить, это немного конкретизировать того идеального человека, которого Конфуций сравнил с «Полярной звездой». Если обычный человек живет «своей головой», то человек «Полярная звезда» – всегда пребывает в «своем сердце». Он и «думает» им, и принимает решение им – даже не всегда считаясь с «мнением» своей головы. Его сердце всегда «горит» и «светится», оттого и ум его в конце-концов перебирается жить в это сердце, где «светлее». И в этом отношении такой человек ближе к женскому существу, чем любой другой «нормальный» мужчина… «Можешь ли быть как самка?» – вопрошает неизвестный создатель Дао Дэ цзина. И вся Вселенная, все звезды «крутятся» не вокруг этого человека, а вокруг его сердца. Именно оно притягивает к себе людей и звезды.
Суждение 2.2
2.2. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «[Книга] Ши [-цзин] [содержит] три (сань) сотни (бай) [стихов, а] одной (и) фразой (янь) покрывается (би): нет (у) злых (се) мыслей (сы)».
Для чего Конфуций это сказал? И есть ли в этом хоть какое-то назидание? Или он это заявляет как «мудрый философ», рассуждающий об отвлеченных материях?
О Ши-цзине мы уже много говорили. Ши – это «стих», «стихи». Хотя самое древнее, исходное значение этого иероглифа, бесспорно, было иным, и это несмотря на то, что такое значение даже не приводится в БКРС. Оно кануло в Лету, и китайцы его не знают. Оно ближе к тому, что мы бы назвали словом «молитва», – т. е. ближе к области уже сознательного противопоставления человека духам. Ближе – к жертвоприношению ши, но только внутреннему. Именно такова обычная последовательность этапов «раскрепощения» человека от внутренней связи с миром духов. Ко времени жизни Конфуция этот сборник еще не имел почетной приставки —цзин, которая относит его к разряду канонических книг. Но при Конфуции это уже были действительно «стихи», хотя еще несколько «корявые» и простые, причем, к этому времени само содержание сборника и осознание его предназначения – но иначе и быть не могло! – принципиально изменилось. Все переводы этого сборника на европейские языки облагораживают и украшают его «бесхитростный» (но только в воображении переводчика!) рисунок.
Главным в этом суждении является иероглиф се. Он фактически является смысловым аналогом греческого слова понэро́с, которое так часто встречается в евангельском тексте в устах Христа и которое обычно переводится на русский язык словом «злой». Например, если читать синодальный перевод, Христос говорит своим слушателям: «Вы – злы» (Мф. 7:11, Мф. 12:34). Но этот перевод не охватывает всего спектра значений, каким обладает греческое понэро́с или китайское се, по той причине, что наш русский язык, как правило, более конкретен и носит «точечный» характер. Наш язык очень часто способен выразить что-то общее только за счет умножения различных слов, описывающих это общее. А переводчик выбирает из всего этого множества какое-то одно наиболее характерное значение, пусть оно и сужает изначальный спектр значений исходного переводимого им слова. И если сравнить, например, перевод одной и той же евангельской фразы на английский и русский, то английский вариант будет короче, потому что в английском языке слова носят, как правило, более «объемный» характер, чем в языке русском. Древнегреческий же язык – это один из богатейших языков мира, и он одновременно обладает качествами как русского «точечного», так и английского «общего».
А здесь – речь как раз об «общем». Китайское се (но также и греческое понэро́с) – это одновременно: «злой», «дурной», «подлый», «низкий», «испорченный», «порочный», «зловредный», «хитрый», «коварный», «лукавый», «фальшивый», «ложный» (БКРС № 3538). Ведь у нас, по-русски, «злой» и, например, «хитрый» или «фальшивый» – это совершенно разные характеристики человека. То есть, говоря простым русским языком, понэрос или се – это какая-то «сволочь» в прямом смысле этого слова (да простит меня читатель за такое нелитературное слово). И когда Иисус говорит своим слушателям, что они – понэро́с, это означает, что Его слушатели – уж совсем не хорошие. Обидно? – Конечно, обидно. Мы от Него такого «изречения» просто не ожидали. И если бы мы знали всю эту правду о понэро́с наперед, – о том, как Он нехорошо нас «обзывает», – тогда бы мы Его, может быть, даже и… слушать не стали!
Но давайте немного по-серьезнее. В действительности Христос просто констатирует тот естественный факт, что все мы рождаемся «животными» (такими-то вот внутренними «сволочами»). И для того, чтобы совлечь с себя это недостойное человека имя (ведь каждый из нас все равно уверен в том, что он – «хороший», и это только потому, что в каждом человеке сокрыта «искра Божья»), необходимо стать хотя бы человеком-Вэнь. Именно опыт Вэнь (а о нем Иисус говорит в Евангелии от Фомы, перефразируя это греческой Сократовской формулой «Познай самого себя») выводит человека из «животного» состояния. Об этом «китайском» опыте Вэнь Иисус беседует в каноническом Евангелии от Иоанна. К Нему тайно приходит иудей Никодим, который стремиться понять правду жизни. И ему (только ему одному! потому что всем остальным эти слова слышать рано) Иисус заявляет «странные» вещи: «Если кто не родится свыше (а́нотхэн, т.ж. «снова»), не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). «Рождение свыше/снова» – это и есть опыт Вэнь. «Увидеть Царство» может только тот, кто уже получил это «рождение свыше».
Возвращаясь к тексту суждения, возникает закономерный вопрос: может ли ученик, который обладает хотя бы одним из всех вышеперечисленных отрицательных качеств, стяжать Дэ в свое сердце? Ведь недаром иероглиф сы, который переводится как «мысль», «замысел», «идея», «думать», «мыслить», имеет в своей нижней части радикал «сердце» (синь). «Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» (Лк. 6:45). Если человек читает, слушает, смотрит или общается с чем-то «злым» (се), он поневоле это «зло» в себя вбирает. Отчасти по этой причине монахи раннего христианства уходили в пустыню: бытовая «трескотня» блокирует стремление человека к духовному, как бы мы не защищали и не оправдывали наши «социальные сети».
Но у Конфуция монашеской альтернативы для учеников не существует, и единственный «чистый» искусственный инструмент, который при соответствующем настрое может ввести в душу человека беззлобие, а значит, душевный мир, – это Книга Ши. Других подобных книг в Китае не существовало, и именно Ши была для Конфуция еврейской «Книгой Псалмов», потому что в ней пребывало подлинно духовное, как та основа в виде холста, на которую наносят краски. Добавим от себя, что «читать», а точнее «рассматривать» эти древние иероглифы-«стихи» во времена Конфуция – это одновременно смотреть какое-то «таинственное кино» в виде сменяющихся картинок. Но это также – своего рода «психо-сеанс», являющийся полным аналогом индийской медитации. Сеанс по умиротворению человеческого сердца.
Человек сам начинает настраиваться на мир и думать о добром и бренном: ведь в Ши-цзине «смотришь» и видишь то, чем жил человек столетия назад. И именно такой внутренний настрой является единственно возможным основанием для того, чтобы начинать свой путь к «просветлению сердца».
Добавим еще несколько слов о смысловых истоках встретившегося нам здесь иероглифа би. Мы уже говорили, что такие истоки – если речь идет о чем-то глубоком и существенном – всегда ритуальные, т. к. первоначально все древние китайские иероглифы обеспечивали искони существующую связь между миром живых и миром ушедших. Иероглиф би переводится здесь как «покрывать», «укрывать», «заслонять», «прятать». Другие значения возникли позже. Но его подлинным первым значением была «*драпировка траурного экипажа», правда, читался он в этом случае уже как фу (так, по крайней мере, понимают это ученые). И когда Конфуций произносил эту фразу (или когда кто-то из древних видел рисунок этого иероглифа в тексте), эта первоначальная «драпировка» – всегда была у него «перед глазами». А современный читатель о ней уже даже и не догадывается, пребывая в торжественной уверенности: он читает древнего мудреца Китая!
Сам же Конфуций понимает такую «драпировку» на Книге Ши несколько иначе. Ши покрыт этой «драпировкой», как гроб умершего человека покрыт скрывающей его траурной материей. Эта «материя» – в виде иероглифов, описывающих внешние события – скрывает от неискушенного читателя гораздо более глубокое и сокровенное содержание «стихов», которое «просвечивает» сквозь внешний рисунок: это то, что «лежит в гробу». Для самого Конфуция это эквивалентно «домовине» духа-шэнь, духа лежащего там покойника.
Мы уже говорили о том, что первоначальные классические «стихи» Ши – это первая и уже действительно человеческая попытка выразить (или отразить) ритуальное, находясь не «внутри» него – как это было при проведении «манипуляций» с черепаховыми панцирями или при нанесении надписей на ритуальные сосуды, – а уже пребывая как бы «вне» его, «снаружи». Это еще не стихи, но это уже «умные слова» – первый признак «погибели» истинно духовного. Это – забрезжившая заря династии Хань.
И именно тогда, во время Хань, и появятся в Китае уже действительно стихи, в полном смысле этого слова, – в виде каких-то Чуских строф. А Ши-цзин – это еще не стихи, и бессмысленно искать в них какую-то «красоту», присущую этому виду творчества. Какая может быть красота в регулярном чередовании «четырех иероглифов», из чего и состоит подавляюще большинство строк его «стихотворений»? Их предназначение – совершенно иное. Они – не для толпы, чтобы скрыть от нее «исподнее», а для аристократов духа. И надо пытаться отыскать их подлинный сокровенный смысл – как мы ищем такой смысл в евангельских притчах или словах. Мы же не называем эти притчи «стихами»? Хотя это – подлинные стихи, потому что духовное, выраженное человеческим языком, – это всегда поэзия сердца.
Суждение 2.3
2.3. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Их (чжи) способ руководства (Дао табуированный; т.ж. «вести за собой», «руководить») [заключается] в управлении страной (чжэн) [посредством] беспристрастности (ци, т.ж. «равная мера») [применяемого] ими (чжи) наказания (син, т.ж. «закон», «кара»). [В этом случае] народ (минь) [стремится] избежать (мянь) [наказания] и (эр) не (бу) испытывает чувство стыда (чи). [Если] их (чжи) способ (Дао табуированный); [будет заключаться] в (и) [управлении страной с помощью] Дэ, [в таком случае определяющей станет] беспристрастность (ци) [требований] Ли («ритуал»). И возможно, что (ю) [народ] устыдится (чи) и даже (це, т.ж. «вместе с тем», «одновременно») станет исправляться (гэ)».
Местоимение «их», которое мы видим в самом начале суждения, – это «чиновники» и «правители княжеств». Как видит читатель, второй вариант решения вопроса управления государством – с помощью категорий Дэ и Ли – для самого Конфуция предпочтителен. И понятно почему: это и есть подлинное Дао тех предков, которым Конфуций всегда стремился подражать (сюэ). Но когда в священных надписях Раннего Чжоу встречались эти иероглифы – Дэ и Ли, рядом всегда появлялся иероглиф «предок» («предки»), т. к. изначально ритуал (Ли) был всегда обращен к «предкам». И в ответ на это «предки» ниспосылали благодать Дэ своим живущим потомкам.
Мы завели этот разговор о «предках» совсем не случайно. Наречие «даже» (це), которое мы видим в конце этого суждения, графически ничем не отличается от древнего иньского иероглифа цзу – «предок». В Раннем Чжоу к этому иероглифу был добавлен слева знак «алтарь» (ши), и при этом значение такого составного иероглифа оставалось прежним – «предок». А следующий за иероглифом це иероглиф гэ, который мы перевели как «исправляться», в древности означал нечто совершенно иное: «*приходить», «*приближаться», «*подходить». В результате одновременной замены поздних значений этих двух соседних иероглифов на более древние мы получаем – вместо заявленной ранее фразы («и даже станет исправляться») – совершенно иное ее понимание: «и духи предков приблизятся».
Для Конфуция важно не само по себе «управление» народом, как социальный факт, а связь такого «управления» с миром умерших, которые продолжают незримо участвовать в делах живущих. Мы понимаем, что такая наша трактовка окончания суждения – это только предположение, хотя оно вполне обосновано и полностью вписывается в контекст всего содержания Лунь юй. Конфуций вряд ли бы стал использовать священный в древности знак цзу – а он ему было хорошо известен из надписей на ритуальных сосудах – в качестве какого-то «служебного дополнения» (наречия це) к основному рассказу. А следовательно, вариант перевода «духи предков станут ближе» – более предпочтителен.
Если говорить о понимании главной мысли суждения, то любому читателю уже ясно, что это суждение явилось следствием злободневной дискуссии среди тех «философских школ», которые существовали во время жизни Конфуция, а именно: каким способом лучше управлять государством, а значит, и народом? При этом одной из популярных школ в то время была школа легистов («законников»-фа), которая ратовала за введение в государстве строгих законов. Фактически, Конфуций противопоставляет закону светскому, основанному на наказании, закон духовный, основанный на стыде/совести человека, и зафиксированный, по его убеждениям, в трактате Ли цзы – «Записки о ритуале» (а скорее всего, в тех записях, которые этому трактату предшествовали, т. к. сам этот текст датируется IV в. до н. э.).
Сегодняшний читатель с удивлением отметит, что подобные споры – о правильном способе управления – живы до настоящего времени, хотя ведутся они между атеистическими представителями светского государства и их противниками, принадлежащими к той или иной церкви. Для того чтобы правильно понять это суждение Конфуция, надо задать себе вопрос: кто более склонен нарушать закон? – Верующий религиозный человек, или атеист, знакомый с Уголовным кодексом? При этом необходимо делать скидку на то, что во времена Конфуция любой легист гораздо больше верил в посмертную жизнь духа, чем, например, усредненный современный верующий христианин.
Такое мнение китайского философа – о приоритете в способах управления – полностью разделял русский писатель Ф. М. Достоевский. Не беремся гарантировать точность цитаты, но в одном из своих романов он устами героя заявляет следующее: «Русский человек – это прекрасный человек и даже лучший человек, – если он христианин. Если же нет, – это самая последняя дрянь». Фактически, Достоевский фиксирует тот факт, что в душе русского человека одновременно сосуществуют – при всех противоречиях – Ад и Рай. И при этом силы Ада могут быть усмирены только искренней верой в посмертное воздаяние душе. Но если такой веры нет, – русский человек превращается в худшее существо, – в него как будто вселяется дьявол, и он всецело, почти с наслаждением, отдает себя во власть беззакония. По принципу: «Если правды на земле нет, то гори всё синим пламенем!».