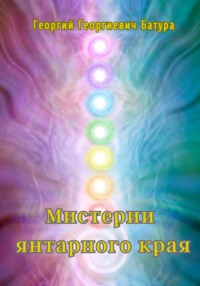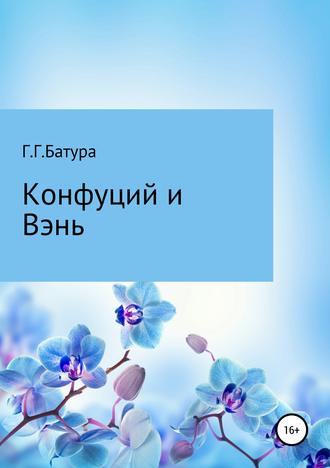 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
И здесь следует отметить, что подобное «китайское» отношение к «духам предков» вовсе не противоречит евангельскому представлению о жизни и смерти. Иисусу и апостолам «на горе́ высокой» Фавор (в евангельском тексте название этой горы не фигурирует) явились «духи» Моисея и Илии. А после распятия Христа апостолам, сидящим «за запертыми дверями» по причине «страха иудейского», явился именно Его «дух», а не нечто иное, необъяснимое: этот «дух» прошел сквозь стены. «Кости» человека, как известно, сквозь стены не проходят.
Апостолы Христа были необразованными людьми как в интеллектуальном, так и в духовном отношении (иудаизм принципиально отличался от того, что мы видим в Древней Индии). И они, как и все простые люди, очень боялись «приведений» (как испугались они во время встречи Христа, идущего по водам «моря Галилейского», – находящиеся в лодке апостолы, увидев Его, «возопили от страха»). Поэтому Христу часто приходилось общаться с ними, как с несмышлеными детьми, в том числе и относительно этих «привидений».
Этот «дух» есть в каждом из нас, – и он не умирает после нашей смерти. «Дух» Христа, как это описано в евангельском тексте, был видим для глаз, а у обычных «покойников» – он невидим, и дело здесь в разнице «духовной силы». Если бы проповедь Христа состоялась в древнем Китае, ее семена попали бы на гораздо более благоприятную почву. Проще было бы и самому Христу, и всем тем Его слушателям, которые уже имели великолепную духовную базу в виде Учения Чжоу о Дэ. Отличие в этих великих Учениях человечества заключается в том, что по Конфуцию человек должен «ухватиться» за «духов верха», а по Учению Христа – за «Отца». Но и христианство тоже эволюционировало в сторону более «естественного» китайского Дао: фактически христианин обращает свое Жэнь не к «Отцу», а уже непосредственно к «Духу» Христа (хотя он и называет этот «дух» словом «Бог»).
Два других качества Цзюнь цзы, на которые указывает Конфуций – контроль за своими словами и «прилежность» («упорство») в отношении совершения жертвоприношений – также важны для настоящего христианина, как и для последователя Конфуция. «Но будет слово ваше “да-да”, “нет-нет”, а все сверх того – от лукавого» – так учит своих апостолов Христос в Нагорной проповеди. При этом, пользуясь случаем, следует пояснить читателю, не знакомому с древнегреческим евангельским текстом, что эти слова Христа обращены к тому мужу, который сначала дает своей невесте «обеты, смешные может быть невидимой судьбе» (Е. Баратынский), а затем смотрит на другую женщину «с вожделением», «преступает клятву» и «разводится с женой своей» (Мф. 5:28 и сл.). У Конфуция таких жестких требований к мужчине нет, а у Христа – без них обойтись невозможно. Потому что Конфуций учит о «райских обителях», а Христос о том «Царстве», которое «выше» (шан) этого Рая.
И это духовное Царство Христа не имеет ничего общего с известным еврейским мальку́т шама́им, которого ожидали евреи в виде земного «прихода Мессии». Хотя и греческое баси́лейя тон урано́н, которое провозгласил Христос в Своей проповеди, и еврейское мальку́т шама́им, – в переводе на любой другой язык означают одно и то же: «Царство Небес». Да, это действительно одно и то же в словесном выражении, но «Царства» эти совершенно разные. И именно на этом «погорел» апостол Павел, который принял Христа за «обещанного» евреям Мессию (Павел, кстати сказать, проповеди Христа не слышал и Евангелий не читал, так что подобная ошибка ему простительна).
Христос же – по той простой причине, что речь в евангельском тексте идет о совершенно реальном проповеднике – иначе исполнить Свою миссию просто не смог бы: Он – изгнанный из своего сообщества манде́й-священник («Нет пророка в своем отечестве!») – проповедовал среди евреев, а еврейский Закон предписывает «побивать камнями» всякого, кто осмелится говорить что-то свое, отличное от предписаний Торы. Поэтому Христос и проповедовал «как будто» еврейское малькут шамаим, причем так, что этому поверили даже Его недалекие ученики-рыбари. Однако умные еврейские фарисеи неоднократно «хватались за камни», т. к. «своим нутром» чувствовали, что их обманывают. Но это – «к слову», раз уж мы проводим постоянные параллели между Учением Конфуция и проповедью Христа.
Суждение 1.15
1.15. Цзы-гун сказал (юэ): «Бедному (пинь) [человеку] не следует (у) заискивать (чань, т.ж. «льстить»), [а] богатый (фу) не должен (у) проявлять высокомерие (цзяо, т.ж. «гордость»). Разве (хэ) [это] не *все равно, что (жу, т.ж. «как будто», «*как», «соответствовать», «подобно») [было в древности]?» Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Согласен (кэ, т.ж. «можно», знак одобрения). [Но это] еще не (вэй) *все равно, что (жо, т.ж. «*подобно, «*как») [когда] бедный (пинь) [пребывает в] радости (лэ), [а] богатый (фу) – подобен такому [человеку], который (чжэ) любит (хэ) ритуал (Ли)». [Цзы-]гун сказал (юэ): «[Книга стихов] Ши[-цзин] гласит (юнь):
Всё равно что (жу) вырезан (це),Всё равно, что (жу) обточен (цо),Всё равно, что (жу) отшлифован (чжо),Всё равно, что (жу) отполирован (мо).[То, что мы] обсуждали (вэй), [не с] этим ли местом (сы) [стихов] соотносится (юй)?». Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Цзы[-гун], вместе с (юй) [тобой] можно (кэ) приступать к (ши, т.ж. «начало», «исток», «приниматься за», «*зачатие» «*беременность») [изучению] Ши[-цзин]. [Мы только что] обратились (гао, т.ж. «*расследовать», «*обращение к духам предков при жертвоприношении» – О. М. Готлиб) к (чжу) [тому, что] было (ван, т.ж. «уходить», «миновать», «*покойник», «прошлое»), [а ты уже] знаешь (чжи) то, что (чжэ) будет (лай, т.ж. «приходить», «будущее»)».
«Победил» в этом словесном споре, конечно же, Цзы-гун. По ходу дела собеседниками обыгрывается фраза «всё равно, что» (некая интеллектуальная игра с иероглифами), которая передается в древнекитайском языке иероглифом жу или жо. Сначала она прозвучала в устах ученика в виде иероглифа жу. На это Конфуций ответил ему тем же самым (и тоже древним) «всё равно, что», но при этом он использовал уже другой иероглиф – синонимичное жо. Цзы-гун не остался в долгу и «положил Учителя на обе лопатки» целой серией «всё равно, что» в виде «своего» иероглифа жу, процитировав четыре строки из Ши-цзин.
Наверное, самой первой и самой древней книгой в Китае была «Книга стихов» – Ши-цзин. Предание гласит, что ее редактировал сам Конфуций, который из 3000 известных в его время стихов выбрал немногим более 300, которые и дошли до настоящего времени. Принцип, по которому он отбирал эти стихи, путешествуя от библиотеки одного княжества к библиотеке другого, комментаторы и знатоки древности так и не определили, причем, в эту «Книгу» входят как величественные древние Гимны, воспевающие подвиги Вэнь-вана и У-вана – основателей династии Чжоу, – но также и «простонародные песни», которые, по мнению всех последующих комментаторов, не несут в себе никакой героики.
Однако не может быть никакого сомнения в том, что для самого Конфуция критерием такого отбора являлся тот скрытый в стихе «вектор», который побуждал человека задумываться о смысле своего бытия, – который настраивал человека на такой лад, когда он был готов размышлять на эти темы. «Книга стихов» как будто толкала человека на тот путь, о котором все время говорит сам Конфуций, и нет сомнения в том, что для него самого эти стихи были теми «Псалмами Давида», на которые так часто ссылается Христос в евангельском тексте. Однако после Конфуция подлинным «молитвенником» Китая стал уже не Ши-цзин, а текст Лунь юй, осознанный комментаторами эпохи Хань совершенно по-новому.
И в этом – тоже полная аналогия с христианством. Тексты Псалмов, которые в первоначальном христианстве почитались как Писание, были заменены сначала на канонические Евангелия, а затем на – Послания апостола Павла, которые в монашеской среде, утвердившейся за это время в Церкви, стали цениться выше Евангелий (об этом свидетельствует ряд отзывов выдающихся представителей монашеского сословия). Однако так не было у нашего Серафима Саровского, для которого именно Евангелия были самыми ценными в духовном отношении, и они в его распорядке дня фактически, на деле, противопоставлялись всему остальному тексту Нового Завета. Глубинный корень таких монашеских приоритетов тоже понятен и даже прозрачен: «неженатые» монахи, исходя из самой природы их «монашеского подвига», могли достичь только «райских вершин», чему и соответствовали все апостольские Послания (за исключением Первого послания Иоанна). Евангельский же текст, в котором описываются брачные отношения, в котором фигурируют «женщины» и даже «прелюбодеяние» и где главным притчевым сравнением для Царства являются «браки», – всё это было им чуждо.
Как мы уже говорили, подлинное знание смысла многих стихов Ши-цзин в Китае давно уже утрачено, – точно так же, как Церковь никогда не знала (и сегодня не знает) смысла целого ряда евангельских притч Христа (напр., притча о «заплате» и о «вине»; о «скопцах», а правильнее, – о «евнухах»; о «верблюде», которому «трудно пролезть сквозь ушко иглы»; притчу о «новом» и «старом»; притчи о том «Царстве Небесном», которое Церковью всегда ассоциировалось с общечеловеческим Раем и т. д.).
Традиционный перевод этого суждения отличается от приведенного нами выше. И отличие заключается в том, что речь идет не о каком-то бедном человеке и еще о другом, но уже богатом, а об одном и том же человеке, – «о человеке, который в бедности не пресмыкается, в богатстве не заносится» (П. С. Попов). Но, во-первых, в Китае того времени еще не созрела такая экономическая ситуация, когда бедный вдруг неожиданно мог стать богатым и наоборот. Подобные случаи в Китае были большой редкостью, и вряд ли об этом, причем, без поименной конкретизации, стал бы вести речь Конфуций со своим учеником. И, с другой стороны, такое понимание начального текста суждения свидетельствует о том, что все переводчики (комментаторы) не понимают смысла этих процитированных стихов Ши-цзин.
Один из лучших учеников Конфуция высказывает ему свое суждение о бедном и богатом – так, как это должно было бы быть правильным, по мнению самого Цзы-гуна, и как это было «в древности». Отсылка слушателя (читателя) к той «древности», которую мы ввели в текст «волевым порядком», вовсе не случайна. И вряд ли это стоит доказывать тому читателю, который уже ознакомился со всеми предыдущими суждениями первой главы Лунь юя. «Древность» для Конфуция и его учеников была тем эталоном, о котором они постоянно помнили, и с которым обязательно сравнивали всё важное, – с чем постоянно сталкивались в своей жизни. И в этом они не были пионерами. Слово «древность» – гу – возникло в Раннем Чжоу, и оно знаменовало факт чудесного обретения Вэнь-ваном «совершенного Дэ». И именно эта «древность» была тем «маяком», который столетия светил своим Светом всему Раннему Чжоу – вплоть до тех пор, пока Сын Неба не утратил знание Дэ.
Итак, хорошо ли ученик это сказал – о «бедном» и «богатом», – и правильно ли выделил то главное, что наделяет благородством обоих представителей этих двух разных сословий социальной лестницы? – И сказал очень хорошо, и выделил главное. И Конфуций это подтверждает, и своим одобрением поощряет Цзы-гуна. Но при этом он, как подлинный Учитель, не ограничивается одним одобрением.
Цзы-гун, сам не осознавая этого, пока соорудил только фундамент здания, и он еще не представляет себе того, что на этом фундаменте должно быть построено то, главное, ради чего этот фундамент и должен создаваться. Забегая вперед, следует признать, что после слов Конфуция он сразу же все понял и тут же «выстрелил» цитатой из Ши-цзин. Очень смышленый и находчивый ученик.
Вот Конфуций и показывает ему это «здание»: на «моральном» фундаменте Цзы-гуна он строит свое, уже «духовное» здание. Потому что отсутствие в бедном человеке способности (стремления) льстить и заискивать – это только нравственная сторона социальных отношений, точно так же, как и отсутствие надменности в богаче. Это, конечно, хорошо, но само по себе это никогда не наполнит человека тем Дэ, которое пестует Конфуций в своих учениках. И, с другой стороны, если богатый будет высокомерным, а бедный – подобострастным, то им полностью закрыто Дао, – такие опыт Вэнь не обретут никогда.
Во времена Конфуция китайское общество строго делилось на четко фиксированные социальные слои. Предписания ритуала (Ли) распространялись – и это шло от самой глубокой древности – на богатые аристократические слои общества, а также, частично, на низших аристократов ши, которые были достаточно бедными. К этому разряду ши принадлежал и сам Конфуций. Простым горожанам и прочим «крестьянам» оставалось участие в жертвоприношениях, которые всегда сопровождались ритуальной музыкой.
И точно так же, как любовь к ритуалу и участие в ритуале представителя богатых слоев наполняло душу богатого возвышенными чувствами и гарантировало ему – даже без осознанного стремления – внутреннее духовное развитие, точно так же, но уже как бы на «ступеньку ниже», ритуальная музыка могла вызвать в душе бедного человека особую радость, – радость духовную.
Из всех искусств музыка ближе всего соседствует с подлинно духовным, и часто именно она является тем «спусковым крючком», который открывает человеку дверь в подлинный духовный мир. Тот иероглиф лэ, который мы видим в этом суждении в значении «радость», – означает также «музыка» при другом его прочтении (в этом случае он произносится как юэ). В представлении самого Конфуция любая «музыка» – это музыка ритуальная, т. е. сопровождающая какое-то «обращение к духам». Никакой другой «музыки» Конфуций не признавал.
И здесь следует предварительно сказать, что Конфуций отнюдь не был тем человеком, для которого не имело значения, богат человек или беден. Приоритет в части получения Дэ, как это понимал сам Конфуций (а такое его понимание основывалось на практике Раннего Чжоу), имел богатый, а не бедный. И это вполне объяснимо: у богатого есть все условия для того, чтобы уделить этому вопросу время и внимание; он никогда не бывает голодным, он уже знает грамоту, знает что-то о Чжоу и т. д., в то время как бедный вынужден все свое время тратить на заботы о «хлебе насущном». И именно его, бедного, необходимо «учить» всему, начиная с преподавания азов грамоты.
И в то же самое время Конфуций из своей практики общения с учениками и другими людьми прекрасно понимал, что достижение состояния Вэнь доступно как для бедного, так и для того богатого, кому это богатство досталось по наследству или было получено другим законным путем (например, от правителя княжества за особые военные заслуги). Для получения «райской благодати» Дэ вовсе не требуется «раздать нищим все свое богатство» – это уже максимы Царства Небесного, которое знаменует собой совершенно другой духовный уровень. Тот богатый, который следует Дао Конфуция, может достичь состояния Вэнь. Но при этом он одновременно является тем евангельским «верблюдом», который никогда не пролезет сквозь «ушко иглы».
Итак, Конфуций как бы продолжил мысль Цзы-гуна, но при этом придал ей духовное направление. И что же ему на это Цзы-гун? Он цитирует строки из любимой книги Конфуция – из Ши-цзин – всего восемь иероглифов, из которых первые четыре, начинающие каждую строку – это одно и то же жу. В китайских стихах нет того многообразия оттенков рифмы и ритма (ритмический строй Ши-цзина науке неизвестен и только предполагается), той красоты поэтического звучания, которыми так богата наша русская поэзия (оценить подлинную красоту русской поэзии может только тот, для кого русский язык родной, и никакой «перевод» эту красоту передать не в состоянии).
Такова структура древнекитайского языка, который можно назвать, скорее, «языком глаз», чем «языком ушей». «Поэзия» возникла в Западном Чжоу как естественный результат развития древнего сакрального текста, от коротких надписей на лопаточных костях – к развернутым надписям на бронзе, и затем – как продолжение этого – именно к «поэзии». Подавляющее большинство стихов Ши-цзин, если не все, написано мужами, знающими грамоту. Это совсем не та «поэзия», которую мы знаем, например, по творчеству Пушкина. Если вся европейская поэзия (но также и древнегреческая) это некое «фонетическое действо», адресованное человеческому сердцу через восприятие слова нашим «ухом», то древнейшая поэзия Китая – это нечто совсем иное.
Если обычная поэзия говорит о важном, но земном, – о чувстве любви, о ностальгии по родной земле, о бренности человеческого бытия и т. д., т. е. обо всем том, что больше всего трогает человеческие чувства, то первоначальная «поэзия» Китая о «чувствах» не говорила вообще, а «показывала» иероглифами «мир духов» и связь с ним, продолжая тем самым уже установившийся контакт человека с этим миром (через те же иероглифы). И если даже и была в таком «общении» какая-то «красота», то только «зрительная», но не фонетическая, потому что любой подобный «разговор» безгласен. При этом то главное, что некогда отличало такую «поэзию смотрения» от нашей «поэзии слышания», уже давно утеряно в связи с утратой «действия» древних текстов Ши-цзина. Со временем – уже к жизни Конфуция – такая «поэзия» приняла форму обращения к духовному через сравнение с той или иной жизненной ситуацией. И тем не менее, для китайца – это та же самая поэзия, которая трогает сердце чувствительного человека. Но в нашем конкретном случае речь вовсе не идет о «прелестях» поэзии, а о том содержании, которое несут в себе эти процитированные Цзы-гуном строки.
Как видит читатель, в диалоге Цзы-гуна с Конфуцием присутствуют две пары сравнений. Первая пара – «бедный не льстивый», «богатый не высокомерный», и вторая – «бедный радостный» и «богатый, любящий Ли». Цзы-гун выбрал из Ши-цзина символическое соответствие этим четырем фразам, взяв для этого пример из техники художественной обработки кости (или нефрита). В песне «Ци юй» («Извилистые берега реки Ци»), из которой взяты эти строки, девушка поет о своем возлюбленном, сравнивая его с таким искусно обработанным нефритом.
Итак, художник берет какой-нибудь бивень слона (мамонта или носорога) или кусок драгоценного нефрита в качестве заготовки, и сначала из этой «кости» или «нефрита» что-то «вырезает» или грубо «вырубает» (такое значение иероглифа це тоже присутствует). И это – «бедный нельстивый», потому что даже необработанная кость слона или простой грубый кусок нефрита – это уже «драгоценность». А в данном случае речь идет и о какой-то первичной его обработке. Затем полученную грубую заготовку как-то «обтачивают» (цо). Вполне вероятно, речь идет о грубой обработке камня для получения круглого нефритового диска, который всегда являлся зримым символом власти вана (правителя) Чжоу. Эта стадия обработки соответствует «невысокомерному богатому».
Почему такой богатый «выше» бедняка, если следовать этим «техническим операциям»? Потому что когда владеешь богатством гораздо труднее себя «стреножить», чем когда ты беден. И на этом завершается «моральное». А далее – речь уже о духовных ступенях. «Радостный бедняк» – это «шлифовка» (чжо) того, что предварительно «обточено». Он – выше прежнего богача. Но все-таки самая окончательная степень отделки изделия – это его «полировка» (мо), а это и есть «богатый, любящий ритуал». Потому что, по мнению Конфуция – а оно основано на его собственном опыте – именно через любовь к ритуалу человек может прийти к состоянию Вэнь-вана быстрее всего и успешнее всего. А в древнем Китае знание ритуала и соблюдение его – это прерогатива исключительно богатых.
Смысл приведенных в суждении иероглифов «резать», «обтачивать», «полировать» и «шлифовать» уже давно перепутан, и во многом они сегодня взаимозаменяемы. Нам не удалось найти разумного объяснения этим стихам Ши-цзин ни в одном из доступных источников. Однако нет сомнения в том, что общий принцип соответствия процитированных стихов Ши-цзин всему тому, что было высказано ранее обоими собеседниками, выдержан нами правильно.
Суждение 1.16
Для начала разговора приведем традиционный перевод этого суждения, а точнее, – его традиционный смысл:
Учитель сказал: «Не страдай от того, что люди не знают тебя, а страдай, – что ты не знаешь людей».
Прочитав такой перевод, можно сказать, что это суждение бросает тень на самого Конфуция. Фактически, ему приписывается человеческая черта, совершенно не свойственная людям подобного масштаба: стремление к славе или к должности. У подлинного духовного лидера – а Конфуций именно таков – наличие такой черты исключается. По той причине, что таковые выходят на проповедь вовсе не из-за желания как-то прославиться среди людей, а только потому, что чувствуют свою ответственность и свой долг перед теми Высшими силами, которые открыли им глаза на Правду жизни. Эти люди призваны на проповедь свыше – так они это осознают сами, а значит, таковые ищут славы только для тех и у тех, Кто их послал. Конфуций – ищет одобрения, а значит и «славы», у Неба-Тянь, а Иисус – славы для «Отца». А в нашем случае получается, что Конфуций такое человеческое «славолюбие» – через эти свои слова о «страдании» – в себе самом как бы предполагает. Иероглиф хуань переводится как «болеть», «страдать», «мучиться».
Если внимательно присмотреться к иероглифическому тексту этого суждения, то сразу же бросается в глаза то, что присутствующий в нем иероглиф цзи – «себя», «сам», «свой» – поставлен как бы не на свое «законное» место. Да и не вписывается он во все эти традиционные переводы: мы это возвратное местоимение не видим ни в одном из них, в том числе, и в приведенном выше. И в то же самое время в Словаре Ошанина (БКРС № 12146) приведены ныне давно забытые старые значения этого иероглифа цзи: «*управлять», «*приводить в порядок», «*устраивать», «*налаживать». И если принять за основу, что первоначальное значение иероглифа цзи в этом суждении именно таково, в таком случае смысл данного суждения принципиально меняется:
1.16. Почтенный (цзы) сказал (юэ): «Не (бу) страдай (хуань) [от того, что ты] не (бу) [в состоянии] *привести в порядок (цзи) знания (чжи, т.ж. «знать», «понимать») человека (жэнь), а страдай (хуань) [от того, что] не (бу) знаешь (чжи) человека (жэнь)».
При таком прочтении смысл суждения оказывается гораздо глубже. Конфуций здесь выступает как полноправный Учитель. Его молодые ученики после общения с ним – и это вполне естественно и распространено повсеместно – начинают «учить» других людей посредством именно такого «приведения в порядок» разума своих слушателей. На что эти их слушатели – и это тоже естественно – категорически возражают. Ученики идут к Конфуцию и жалуются ему, что их не понимают. Но имеют ли они право учить других, и кто дает человеку такое право? Конфуций прекрасно понимает, что такое право он транслировать им не может, потому что хорошо помнит, ка́к такое право получил сам.
И он показывает своим ученикам правильное направление в решении этой их проблемы: необходимо сначала «познать человека», прежде чем начинать его учить. А как это можно сделать, кроме единственно возможного в данном случае способа? – Надо сначала «познать самого себя» – тогда и будешь знать другого человека. В Древней Греции жил мудрец, и звали его Сократ. И главным его девизом при обращении к другим людям было: «Познай самого себя». Он говорил это, опираясь на свой собственный опыт «познания». В принципе, он учил тому же самому, что и Конфуций. «Познавание самого себя» – это общечеловеческий путь духовной эволюции хомо сапиенс, который заключается в познании человеком своего сердца. Наверное, придет время – пусть через тысячелетия – когда все живущие на земле люди будут этот опыт знать. И это будет новая (или очередная) ступень эволюции человека, когда уже не будет войн, злобы, зависти и обмана.
Когда сердце познано, – оно «расширяется», как это сказано в Псалме Давида, или оно «просветляется», о чем свидетельствуют записи Древнего Чжоу. Это – одно и то же, просто описано разными словами, но опыт Вэнь – один. Вместе с этим опытом к человеку приходит особое знание, которое невозможно получить через земные «школы» или «академии». И тогда человек точно знает, что он уже может учить других. Так знали Конфуций, Христос, Моисей, Заратуштра, Сократ, Пророк Мухаммед, – все они были «братьями» Вэнь-вану по духовному разуму. И именно этого требует от своих учеников Конфуций: он знает, что в этом случае ученики уже совсем по-иному будут смотреть на свою миссию по «просвещению» других людей.