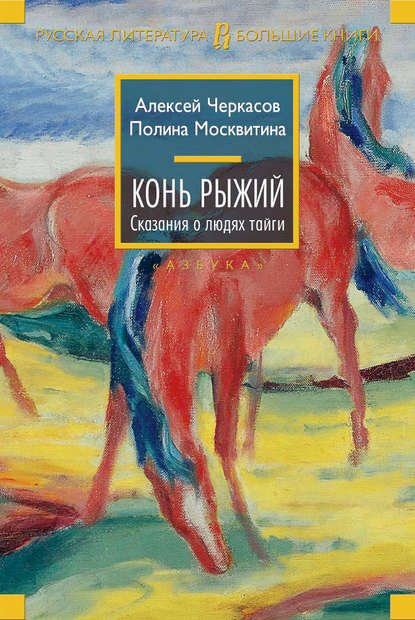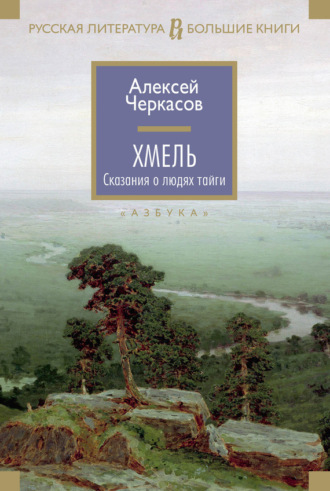
Полная версия
Хмель
Чадно и тяжко, тяжко!..
«По высочайшему повелению…»
Зачинался рассвет, но Лопареву казалось, будто над гласисом крепости, над плац-кронверком, где мрачно вырисовывалась виселица, над всем Петербургом с прохладной Невою опускалась долгая ночь, которой никому из них не пережить…
Вечная ночь…
Солдаты били в барабаны. Розовело небо. На золотом шпиле собора вспыхнули золотые лучи…
Не узнавали друг друга в арестантских одеждах.
Желтели на спинах бубновые тузы…
Пятерых построили под перекладиной. Над каждым спускалась пеньковая петля. Тех самых, пятерых…
Лопареву хотелось крикнуть, но он не мог вызвать из окаменевшей груди ни малейшего звука.
Когда трое сорвались – Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский, – среди осужденных на каторгу послышались стоны.
Кто-то крикнул:
– Дважды не вешают!
И звонкий голос Рылеева:
– Я счастлив, что дважды за Отечество умираю!
Генерал-адъютант Чернышев гарцевал на коне…
Лопарев не помнил, как отводил его жандарм в Секретный Дом.
Двери тринадцатой камеры захлопнулись, как крышка гроба…
И опять потянулись дни и ночи… Теперь узнику не подавали в окошечко бумагу с гербом и заголовком и голоса призраков не поднимали с постели.
Позднее, когда погнали этапом в Сибирь на каторгу, Лопарев подсчитал, что провел в Секретном Доме после объявления приговора девятьсот девяносто один день!..
Тяжкая, тяжкая ночь легла над Россией. Неужели на веки вечные?
VIIЛопарев выполз из-под телеги. Вечерело. Солнце закатилось, но было еще светло.
Возле старой изогнувшейся березы, у тлеющего костра, сидела на пне Ефимия, невестка старца, в длинной льняной юбке, закрывающей ноги, в бордовой кофте, с рукавами до запястья, в неизменном черном платке, повязанном до бровей. На коленях у нее лежала раскрытая Библия. У костра возился мальчонка лет пяти, белоголовый, щекастый, в холщовой рубахе до пят. На тагане висел прокоптелый котелок. В трех шагах от костра темнело еще одно пепелище, с печуркой, чугунами и глиняными кринками. Поодаль – еще одна телега с поднятыми оглоблями, со сбруей.
Ефимия до того углубилась в чтение Библии, что не слышала, как выполз из своего убежища Лопарев.
Мальчонка вытаращил глаза на незнакомого дядю и заревел, ухватившись за подол матери.
– Барин! – ахнула Ефимия, закрыв Библию и схватив сына на руки.
Лопарев удивился:
– Чего так испугались? Я не зверь.
– Нельзя вам выходить, барин, – промолвила Ефимия, поднимаясь и пятясь к толстой березе. – Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой.
– Батюшка Филарет? – Лопарев не знал такого.
– Старец общины.
– Тот старик, с которым я разговаривал?
– Если что надо, барин, подайте голос. Я буду всегда тут, поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги. Прокипяченная и остуженная. Ужин сготовила вам, только… спрячьтесь под телегу.
– От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков?
– Упаси Бог!
– Чего же мне прятаться?
– Так повелел батюшка Филарет. Чтоб никто из общины не смел зрить вас, разговор вести.
– Почему?
– Верование ваше чуждо. Анчихристово.
– Да ведь вся Русь православная!
– Не вся, не вся! – поспешно открестилась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. – Есть на святой Руси праведники. Есть! Хоть малым числом, да блюдут святость старой веры.
– Старой веры?
– Аль вы не слыхивали, как нечестивый патриарх Никон совратил Церковь с пути истинного? Как он Святое Писание извратил да опоганил? Как на Вселенском соборе попрал ногами праведников и самого Аввакума-великомученика да возвел в чин и благолепие еретиков поганых да мздоимцев жадных?
Нет, Лопарев ничего подобного не слыхал.
– От него великий грех вышел, от того Никона. Проклят он на веки вечные.
Ефимия тревожно оглянулась. Кругом – ни души. Тихо лопотала старая береза. Поблизости мычала корова – призывно и долго. Где-то в березняке фыркали лошади. Рядом синела тиховодная река.
Лопарев спросил, что за река.
– Ишимом прозывается, – ответила Ефимия.
– И рыбу можно ловить?
– Ловят мужики. Да нету такой рыбы, как в нашем Студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья.
– Это же очень далеко!
– Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли анчихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общиною в Сибирь.
Лопарев хотел взглянуть на Ишим.
– Нельзя, барин! Нельзя! – перепугалась Ефимия. – Старец разгневается и прогонит. Не гневайте старца! Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега.
– Нехристи?
– Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю, – ответила Ефимия. – Они могут и стрелу пустить.
Лопарев спросил, где же люди, старец.
– Вся община на всенощном моленье, – сообщила Ефимия. – Малые дети спят. Старухи доглядывают за ними. А так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена. Люди захоронены, которые померли за зиму и весну. Спрячьтесь, барин! Нельзя так стоять-то. Худо будет. И мне и вам…
– Что у вас за община такая строгая?
– Филаретовская община, – вздохнула Ефимия. – Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте. Хлеб там лежит. Я скоро вернусь. Не выходите на берег! Упаси Бог.
Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. Вот так вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?..
VIIIСмеркалось. Покатое небо за Ишимом играло зарницей. Полыхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зарницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа, и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зарница, сибирская, а Лопареву тошно.
Беглый каторжник!..
Велика Русь, а деться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы, а чуть в сторону – темень людская, хоть глаз выколи.
Муторно!..
Ефимии все еще нет. Может, не явится? Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту, Ядвигу Менцовскую, только в ином наряде.
Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью, должно, разыграется гроза.
Послышались шаги. Мягкие, шуршащие.
– Не спите, барин? – Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. – Ужинали?
– Спасибо, Ефимия. Ужинал.
– Тсс! По имени не зови. Если кто услышит – беда мне.
– Как же звать?
– Никак. Нельзя мне вступать в разговор с вами, а… вот пришла. Ну мой грех, мне и ответ держать. – И, помолчав, сообщила: – Да ночь-то сегодня такая – все на судное моленье ушли.
– Судное моленье?
– Тсс! Говорите тише, барин. – Ефимия оглянулась, приглядываясь к лесу: совсем близко фыркнула лошадь. – А мне-то померещилось, будто кто крадется. – И, взглянув на Лопарева, опустилась на землю. – Видите, не боюсь, барин. Только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму.
– В яму?!
– И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую.
В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смолка на пихтах в июле. Ее что-то беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто не подслушал. Ее волнение передалось Лопареву.
– Что у вас за община такая страшная? – вполголоса спросил он.
– Ой, страшная, барин! Страшная!
– Не зови меня барином. Какой я барин – колодник.
– Про колодника батюшка Филарет наказал, чтоб я и во сне не обмолвилась.
И, вздрогнув, спросила:
– А какое ваше званье?
– Из дворян. Но лишен судом всех сословных званий и состояния.
– Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто?
– Этого я не знаю.
– Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова. Правда ли?
– Не слышал. Я мало жил в имении родителей. С детства в Петербурге.
– А в Москве бывали?
– Бывал.
– Ой! А Преображенский монастырь видели?
Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь.
– А я в том монастыре родилась, – тихо промолвила Ефимия, потупя голову. – Из монастыря того на встречу Наполеона ходила.
– Наполеона?
– Тсс! Потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали! Сколь годков не встречалась с человеком с воли!
– Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено! Какая же это вера?
– Крепость наша Филаретовская. Как Филипповская. Едный толк был.
И вдруг предупредила:
– Глядите, барин, не назовите «осударя Петра Федоровича» Пугачевым. Батюшка Филарет разгневается!
– Да разве он был государем, Пугачев?
– Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем «осударя Петра Федоровича» шел на Москву, чтоб взять престол.
Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал «императрицей Екатериной Алексеевной»… В той же «пугачевской» башне, много лет спустя, заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев: Горбачевский, Барятинский и Спиридонов.
Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай Первый…
Из Кексгольмской крепости было только две дороги: либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу…
Декабристам вышла каторга.
IXЛопарев спросил, что же такое «Филаретовский толк».
– Тсс! – Послушать надо. – Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась.
– Толк-то? Самый лютый, – начала она. – Выговский Церковный собор порешил, чтоб совершать моления во здравие царя Николая и подать платить, вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора, а с ним Филипп-строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах, а Филарет надумал увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали.
Ефимия вздохнула:
– Батюшка Филарет – наш старец, духовник. Как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует. Вся община под его рукой ходит. И стар и млад.
Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними: никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины – великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложатся в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз – грех будет. Каждый имеет свою посуду: кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак, винную посуду и к чужой не смеет прикасаться – тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиною. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест – на каждом шагу. «Без Бога ни до порога». Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца, духовника.
– На Волге, слышь, приключилась беда, – продолжала Ефимия. – Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отреклась. Тогда ее сожгли на костре.
– Это же, это же… преступление! – возмутился Лопарев.
– Тсс, барин! Сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в Филаретовский толк…
– Уйти можно!
– Ой, барин. Куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из Федосеевского толка. Московского…
По словам Ефимии, Федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы.
Основатели толка – Федосей Васильев и купец Ковылин – выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водою, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустевших домов: старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду: мужчины – кафтаны, отороченные черными шкурками, с тремя складками на лифе, застегивающимися на восемь пуговиц, и сапоги на высоких каблуках, женщины – черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошвами.
Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывезти во Владимирскую губернию; туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Остались только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной град-столицы, к нему явилась депутация федосеевцев.
– Тогда-то я, барин, и свиделась с Наполеоном, – говорила Ефимия. – В то утро батюшка сказал, чтоб я нарядилась в батистовое платье. Матушка хворала и не могла пойти на встречу. Батюшка мой, Аввакум Данилов, со старцами сготовил подарок Наполеону: быка красного; да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было семь годов, а я все помню.
– Но зачем же быка? – удивился Лопарев.
– Старцы порешили так: бык красный – это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону.
Ефимия тихо усмехнулась:
– Утро стояло моросное, ненастное, а мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними – большущий красный бык – рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой. Сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах. Нарядная! Так и вижу себя в том платье. Брат мой, Елизар, толковал по-французски. Икону Преображения нес, чтобы передать самому императору.
Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им: так вот и так, к императору идем, к Наполеону…
Небо прояснилось, и солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил: «Божье дело, говорит, коль само солнышко проглянуло!»
А какое тут «Божье дело», если мы к басурману на поклон шли?
Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе. И маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил: «Что за депутация явилась из град Москвы?»
Брат Елизар ответил: «Мы – древние христиане, утесняемые царем и никонианской церковью. Пришли заявить вам, государь император, свою верноподданническую преданность и покорность».
Тут и пали все наши старцы на колени. И меня поставили на колени возле пушки. И страх такой: «А вдруг пальнет пушка и смерть будет?»
Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и не от самого царя, не от Кутузова депутация. Слышу: «Кутузов, Кутузов!» А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите.
Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами: как быть? Гнать ли нас аль, может, перебить всех?
Потом опять призвали брата Елизара для разговора. Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смилостивился и принял золото на фарфоровом блюде, и быка того взял.
Вижу, как теперь. Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туго обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает.
Брат Елизар толкует:
«Привечай, сестрица, императора. Да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянная. Чудно! Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юрдивый.
Похлопал меня по щеке, а рука у него духмяная.
Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтоб я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня, как хворую. Хоть я и не была хворая.
В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь. И беда пришла: матушка померла!
В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтоб делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощенье, и батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка моя покойная.
– Где же вера-правда, барин? – вдруг спросила Ефимия, и слезы покатились у нее по щекам. – Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Што искали? Зачем приняли французов в монастыре да угощенье им устроили? Кощунство одно, а не верованье!.. Потом я думала: нету веры-правды у федосеевцев, хоть родилась в ихнем монастыре и матушка там захоронена!.. Какая же это вера, коль сами старцы блуд Богом покрывают? Не раз слышала, как на моленьях старцы наставляли: «Пусть белицы и бабы балуются и родят младенцев, а потом их убивают. Утопят аль удушат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в Царствие Божие». Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке!.. Где же та вера, страх Божий?!
Лопарев не знал того. Спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы.
– Горе было. Стон был, – ответила Ефимия. – Старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата мово Елизара Кутузовы солдаты схватили как изменщиков. Што с ними поделали – не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями да с братьями Юсковыми в побег ударился, в Поморье, к древним христианам. И меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья. Рухлядь везли всякую и золото… Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили…
В Поморье, на реке Лексе, встретили нас чуждо и хотели батогами бить, да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками. И золотом, и парчой, и бархатом. И меня отец отдал в ихний монастырь.
Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю. Что к чему? Понять не умею. Била меня игуменья да приговаривала: «Изыди, Сатано, из тела белаго, из сердца несмышленого, из крови ретивой!» А какая может быть кровь ретивая у девчонки по девятому году?
Потом игуменья проведала про мою матушку, што она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтоб князья Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. «Не нашего рода-племени, – сказал, – коль на свет произошла от блудницы!» С тем и выгнал из дворца свово.
Помолчав, Ефимия пояснила:
– Это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя упрятала в монастырь к федосеевцам. Преступила волю родителя – позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятье в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома.
Так было, барин.
Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дашковы. Всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мыть заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой к той поре помер, я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а все иголка без нитки.
Жила я в том монастыре до зрелого девичества. Не знала, какая великая беда грянет!..
От малой беды до большой далеко ли? Рукой подать!..
Так и случилось. Тяжко вспоминать…
Игуменья готовила меня в лекарши-монашки, да налетел черный ястреб – и не стало белицы! – загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь.
XНебо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А-а-а-а! Ма-а-а-туш-ка-а-а!»
Лопарев поднялся.
– Прячьтесь, барин! Прячьтесь! – прошептала Ефимия. – Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают. На суд поведут.
– На суд? Акулину?
– Тсс, барин! Погубите меня и себя. Спрячьтесь к телеге, Христом Богом прошу!
Лопарев попятился к телеге и сел. Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?
Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву.
– Страх-то какой, Господи! Всю трясет, – проговорила она, зябко скрестив на груди руки. – Это ее когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали, должно. Помоги ей, Господи, смерть принять легкую! – перекрестилась Ефимия.
Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть.
– Беда приключилась, барин. Младенец у Акулины народился шестипалый. На обеих руках по шесть пальцев.
Лопарев не понимал: при чем же тут Акулина?
– По верованию Филарета, шестипалый от нечистого, – пояснила Ефимия. – Акулина хотела сокрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтоб окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то она красивая, приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юскова парня. И вот беда пришла.
– Какая же беда? – не унимался Лопарев. – Мало ли рождается на свет шестипалых.
– Ах, барин! Крепость-то наша какая?! Сказал старец: шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. Жалко Акулину-то, да своих рук не подставишь, – горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. – На свете не успела пожить, первого ребенка народила, и вот – смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом, на прогалине, одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся.
– Это же, это же… убийство!
Ефимия испуганно откачнулась:
– Не глаголь так! Исусе, спаси мя!
Лопарев не унимался. Ругал Филаретовский толк и самого Филарета:
– Сам говорил, что от барской крепости бежал! А в какой крепости людей держит!
– Боже мой, Боже мой! Пощадите, барин! Сынок у меня! – взмолилась Ефимия.
– Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе, – кипел Лопарев.
– Не так, барин! Не так! От веры, а не от тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от погибели.
– Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут!
– Ой, Боже мой! Што я наделала? Зачем сказала?! – опомнилась Ефимия. – Знать, и мне гореть… Аль на тайный спрос поволокут.
Лопарев стиснул голову ладонями, примолк.
И опять в ночи раздался истошный вопль: «Ма-а-ату-у-ш-ка-а-а!..» И эхо покатилось по лесу, отдалось по реке и тихо замерло.
Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моленье общины, чтоб защитить Акулину с младенцем.
Ефимия решительно загородила ему дорогу.
– Али вам жизнь надоела, барин?
– Жизнь каторжника недорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем.
– Четырем гореть, значит, – скорбно промолвила Ефимия.
– Почему четырем?
– А как же, барин! Одно слово старца – и тебя скрутят и к той березе веревками привяжут. Спина спиной к Акулине с младенцем. Потом старец учинит мне спрос: не вела ли я греховных речений со щепотником с ветра? И я скажу: глаголала, отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистого народился, а от уродства. И верованье наше лютое, не Божеское, скажу. Тогда старец подымет два перста в небо и завопит: «Еретичка промеж нас, братия!» И тут схватят меня и к той березе веревками притянут.
Ефимия воздела руки к небу:
– Гореть тогда! Четырем гореть!
У Лопарева опустились плечи и ноги будто чугунными стали, с места не сдвинуть. Одному гореть – одна беда. Но четырем!..
– Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой, – продолжала Ефимия. – В срубах сосновых, со младенцами, с белицами, мужики и бабы жгли себя огнем да еще песни пели радостные. И никто не остановил того огня! Никто не остановил смерть! В три ночи погорело более тысячи душ. Гарью обволокло все Поморье.
– О, тьма-тьмущая!..
– Тьма, тьма! – эхом отозвалась Ефимия.
– Такая крепость хуже тюрьмы.
– Хуже, Александра, хуже! – Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. – Прости мою душу грешную. И я так думаю: не от Бога крепость! Сомненья мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает. Один Бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душей моей, давно бы не жить мне!
Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и громыхнула гроза глухо, ворчливо.
– Хоть бы дождь пошел да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся!
Судный огонь!..
И Лопарев будто въявь увидел перекладину с пятью веревками на плац-кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное, погожее утро! Ни Небо, ни народ, ни царь!..
– Не убивайтесь так-то. Жить надо.
Жить? В такой вот крепости или где-то в Нерчинской каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь?! Во имя чего такая жизнь?
Ефимия толковала свое:
– Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым да безголосым. Польза будет. Старец скажет мне, чтоб я лечила вас от хвори. Я одна лекарша на всю общину! И травы целебные знаю, и снадобья готовлю. Только бы не возвернулся скоро Мокей, муж мой постылый. Крепость моя горькая и тяжкая!